От Сирина к Набокову. Избранные работы 2005–2025
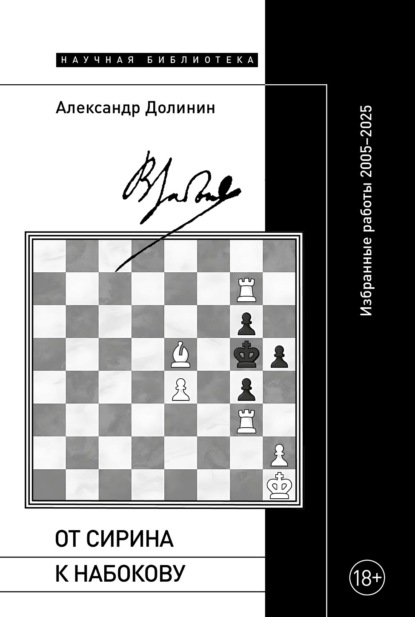
- -
- 100%
- +
<…> говорит «амба», добродетельно матюгается и читает «разные книжки». Он женолюбив, как всякий хороший, здоровый парень, но иногда из-за этого попадает в сети буржуазной или партизанской сирены и на время сбивается с линии классового добра. На эту линию, впрочем, он неизбежно возвращается. Матрос – светлая личность, хотя и туповат [II: 685].
Хотя в эссе не названо ни одно писательское имя или конкретное произведение, объект набоковской злой насмешки можно определить. Это популярная повесть Бориса Лавренева «Ветер» (1924), главный герой которой – матрос Василий Гулявин, обаятельный храбрец, преданный делу революции. Именно он любит восклицание «амба», перед революцией изучает большевистскую политграмоту, читая «разные книжки», во время Гражданской войны влюбляется в партизанскую атаманшу Лельку, «бабу красоты писаной», спит с ней к неодобрению комиссара, а затем отправляет на расстрел, когда она предает революционное дело.
Советские писатели дважды появляются в русских рассказах Набокова как персонажи. Среди сотрапезников Фердинанда, веселящихся в парижском кафе («Весна в Фиальте»), сидит «молодцеватый советский писатель с ежом и трубочкой, свято не понимавший, в какое общество он попал» [IV: 572] – по-видимому, гибрид Максима Горького, в 1920–1930-е годы стригшегося ежиком[97], и Ильи Эренбурга с его неизменными трубками.
«Рождественский рассказ» (1928), действие которого происходит в СССР, выдает неплохое знание советской литературной политики и, главное, роли партийно-чекистской литературной критики. Главный его герой – маститый писатель среднего поколения Дмитрий Дмитриевич Новодворцев (ему около 50 лет) «с прочной, но тусклой славой» [II: 531] и собранием сочинений в шести томах с портретом. Он дебютировал в литературе еще в 1900-е годы; ставит себя в один ряд с Горьким и Чириковым[98] и гордится добрым отношением Короленко; у него революционное прошлое: «…бывал арестован; из-за него закрыли одну газету» [II: 534]. Одним словом, это сборный шарж на оставшихся в СССР и близких к власти писателей-реалистов второго ряда вроде Ивана Вольнова, Федора Гладкова или Сергея Сергеева-Ценского. У всех троих, кстати, в 1927–1928 годах выходили многотомные собрания сочинений[99].
В гости к Новодворцеву (примета времени и индикатор его статуса: он живет в коммунальной квартире) приходят начинающий молодой толстолицый «угрюмый истовый сочинитель из крестьян» Антон Голый[100] и его «пестун», влиятельный критик из журнала «Красная явь» (прозрачный намек на «Красную новь», откуда в 1927 году выгнали оппозиционера и защитника попутчиков А. К. Воронского), «костлявый, расхлябанный, рыжий человек, страдающий, по слухам, чахоткой» [II: 532]. Цвет волос здесь указан едва ли случайно, потому что многие коммунистические вожди были рыжеволосыми, а двое из этого «союза рыжих» (The Red-Headed League) – Бухарин и Радек – по совместительству занимались литературной критикой.
К своему высокомерному гостю Новодворцев относится как к большому начальнику, чьего расположения он ищет, и безропотно принимает от него «социальный заказ» – написать социалистический «рождественский рассказ», в котором отразилось бы «столкновение двух классов, двух миров»:
И что-то новое, неожиданное стало грезиться ему. Европейский город, сытые люди в шубах. Озаренная витрина. За стеклом огромная елка, обложенная понизу окороками; и на ветках дорогие фрукты. Символ довольствия. А перед витриной, на ледяном тротуаре… И, с торжественным волнением, чувствуя, что он нашел нужное, единственное <…> он принялся писать. Он писал о дородной елке в бесстыдно освещенной витрине и о голодном рабочем, жертве локаута, который смотрит на елку суровым и тяжелым взглядом [II: 535].
Сам того не понимая, Новодворцев перелицовывает на классовый лад расхожий мелодраматический сюжет, который Е. В. Душечкина, описавшая его, назвала «Чужая елка»: бедный замерзший и голодный ребенок смотрит через окно на праздничную елку[101]. Творческое воображение просыпается в нем лишь однажды – не тогда, когда он пишет эту дребедень, а когда его посещает мимолетное воспоминание о старых временах, от которого он «с досадой отворачивается»:
Он скользнул обратно к образу елки – и вдруг, ни с того ни с сего вспомнил гостиную в одном купеческом доме <…> и елку в гостиной, и женщину, которую он тогда любил, и то, как все огни елки хрустальным дрожанием отражались в ее раскрытых глазах, когда она с высокой ветки отрывала мандарин [II: 535].
Эта ненаписанная Новодворцевым фраза с искусной аллитерацией («дрожанием отражались») и метрическими вкраплениями резко противопоставляется той банальной рождественской сказке навыворот, которую он из себя выжимает[102].
* * *Наибольший интерес, однако, вызывают не прямые отзывы Набокова о советской литературе, а разнообразные отражения прочитанного в его собственной русской прозе – цитаты, реминисценции, заимствования, полемические ответы, пародии и то, что Омри Ронен назвал антипародиями[103]. Мне уже приходилось обсуждать подобные отражения в «Отчаянии» (советская «достоевщина» 1920-х годов – Эренбург, Соболь, Алексей Толстой и др.), в «Даре» (метафикция Вагинова и Леонида Леонова; романизированные биографии Тынянова), в «Облаке, озере, башне» (Олеша)[104]. Что же касается «Приглашения на казнь», то его связывали лишь с антиутопией Замятина «Мы» (назвать которую советской язык не поворачивается). Между тем в черновой рукописи романа имеется «улика», указывающая на то, что советская литература входила в круг размышлений Набокова во время работы над ним. В главе XI Цинциннат читает лучший современный роман Quercus, безымянный автор которого живет «на острове в Северном, что ли, море» и потому обычно ассоциируется критиками с британскими модернистами, Вирджинией Вулф и, реже, Джойсом[105]. Однако, как показывает черновик, Набоков сначала дал модному современному писателю совсем не британское имя Александр Летчиков[106], а затем, вычеркнув его, хотел сделать Quercus коллективным сочинением «нескольких авторов»:

Можно предположить, что оба отвергнутых варианта целили в современную советскую литературу с ее культом летчиков-героев[107] и утопическими проектами коллективного творчества, отзываясь на злободневные темы.
Набоков начал работу над «Приглашением на казнь» летом 1934 года, вскоре после того, как в СССР была поднята пропагандистская кампания прославления семи полярных летчиков, спасших челюскинцев, – команду ледокола «Челюскин», раздавленного льдами, и участников находившейся на нем научной экспедиции. Великолепную семерку представляли почти мифическими героями, одержавшими великую победу над стихией; чтобы особо отметить их подвиг, было учреждено звание «Герой Советского Союза», которое им тут же присвоили; в Москве летчикам вместе с челюскинцами устроили необычайно торжественную встречу, увенчавшуюся гигантским митингом на Красной площади. Немалый вклад в формирование культа «сталинских соколов» внесли писатели. На первой странице «Известий» рядом с поздравлением летчикам от пяти кремлевских вождей был напечатан «Привет героям!» Горького, в котором говорилось: «Только в Союзе Социалистических Советов возможны такие блестящие победы революционно организованной энергии людей над стихиями природы. Только у нас <…> могут родиться герои, чья изумительная энергия вызывает восхищение даже наших врагов»[108]. Тут же откликнулся на подвиг летчиков и А. Н. Толстой:
Герои спасли героев.
Самолеты, чтобы добраться до Ванкарема, пробились с упорством, с неслыханной дерзостью, сквозь непроглядные туманы, снежные вьюги, покрыв тысячи километров над мерзлыми пустынями, над океаном, над горными хребтами.
Туман и ветер не раз прибивали самолеты к земле. Они падали, ломали крылья и вновь подымались
Они гнались не за славой, не за рекордом. Сердца пилотов и моторы машин бились с сознанием долга: их победа – победа Советского Союза.
Завтра дети будут играть в спасение лагеря Шмидта. Юноши и девушки, поглядывая на облака, будут завидовать героям.
Весь мир рукоплещет подвигам семи пилотов. <…> Да здравствует страна, породившая героическую эпоху! Да здравствуют товарищи, чьи имена сегодня повторит все человечество![109]
В «Правде» «беспримерное геройство летчиков советской страны» славил Константин Федин[110], в «Огоньке» – стихотворцы Семен Кирсанов и еще очень молодой да ранний Сергей Михалков[111].
Одной из главных тем всех этих славословий было принципиальное отличие советских летчиков-героев от тех, кого считают героями в западном мире. Это очень четко сформулировал Петр Павленко:
Героизм становится естественным поведением человека социалистического общества. И наши герои – это не те великие удачники-одиночки, которыми гордится капиталистический мир, ставя им памятники, как редким светочам и образцам, боготворить которых необходимо, но повторить которых нельзя.
Там герои неповторимы, потому что редки. Герои нашей страны потому герои, что их дела творят новых героев. Тот, кто не может взрастить сотни себе подобных, тот жалкий рекордсмен, секрет которого хранится в лавчонках пустой рекламы и ложной сенсации[112].
Иными словами, в стране насаждался культ героев не как исключительных личностей, совершивших по своему свободному выбору нечто уникальное и ценное, а как образцовых исполнителей высшей воли партии и лично вождя, своего рода эталонов, по которым должны строить свою жизнь миллионы других потенциальных героев.
Эта установка на нивелирование личности, которую Набоков высмеял в «Приглашении на казнь», нашла уродливое воплощение даже в самой советской литературе. Весьма вероятно, что идея сделать Quercus коллективным романом была откликом на выпущенный в том же 1934 году коллективный труд 37 советских писателей во главе с Максимом Горьким «Беломоро-Балтийский канал им И. В. Сталина. История строительства 1931–1934». Участники и энтузиасты этого проекта хотели видеть в нем не собрание отдельных очерков, а единое художественное целое, чуть ли не роман нового типа, за которым будущее[113].
Набоков, скорее всего, знал об этой одиозной книге из эмигрантской прессы. Еще до ее выхода парижское «Возрождение» перепечатало из «Известий» фрагмент послесловия Горького, в котором «буревестник революции» докладывал: «Эта книга рассказывает, как лечили и вылечили социально больных; как врагов пролетариата перевоспитали в сотрудников и соратников его»[114]. «Канал воспет. Бывшие преступники потрясены чекистской гуманностью, – саркастически излагал содержание коллективного славословия жестокой диктатуре П. Пильский в рижской „Сегодня“. – Все писатели, участники этого тома с благоговением и восторгом пишут о чекистах <…> еще, и еще, и еще, – целый иконостас застеночных страшилищ. Для этой ватаги советские литераторы не <жалеют> слов умиления. Меж тем надо только взглянуть на эти лица, – и обман обнаружится тотчас же. <…> Три дюжины советских Пименов трудились над этим сказанием о канале, и работали Пимены не так, как обычно пишут литераторы. Толстенная книга перечисляет в оглавлении авторов. Однако, за малым исключением, подписей под отдельными статьями нет. Коротенькое предисловие объясняет, что за текст отвечают все авторы – гуртом и скопом. Личность исчезла и здесь, остался коллектив <…> какая-то рабочая бригада, вооруженная перьями»[115]. Берлинский друг Набокова С. Г. Шерман цитировал статью Горького «Перевоспитание правдой», в которой говорилось, что власть на постройке канала исправляла людей, «истребляя ничтожное количество неисправимых»[116].
Возможно, главная тема беломорканальской книги – чекистская практика так называемой «перековки» заключенных, цель которой, говоря словами одного из самых омерзительных советских критиков, Д. И. Заславского, – добиться перелома в сознании, заставить людей «склониться перед превосходством социалистических понятий»[117], – отразилась у Набокова в попытках тюремщиков и палача «перековать» неисправимого Цинцинната. Они хотят, чтобы узник, приговоренный к смерти, «честно признал свою блажь, честно признал, что любит то же самое, что любим мы с вами, <…> честно признал и раскаялся» [IV: 141], корят за неблагодарность и нежелание понять, что все делается ради его же блага; выдают жестокий обман за безобидные шутки. Тогда в слезливом, вечно всхлипывающем тюремщике Родионе можно усмотреть злой шарж на Максима Горького, который лил слезы на церемонии в честь завершения строительства канала. Фельетонист «Возрождения» Александр Александрович Яблоновский (Снадзский) писал по этому поводу:
От умиления и от восторга перед воспитательной работой Ягоды Горький даже прослезился.
Но этому нельзя придавать большого значения, так как Горький давно получил «дар слезный», как выражаются монахи. Разница только в том, что иноки и святители получают «дар слезный» от Господа Бога, а Горький получил его от чекиста Ягоды.
– О чем бы ни заговорил – непременно слезу пустит и непременно соврет. И даже так, что чем больше плачет, тем больше врет…
Для покойников, которые усыпали «каторжный» канал своими костями, у Горького, конечно, ни одной слезы не нашлось[118].
* * *Отказ Набокова от прямых аллюзий на советскую литературу отнюдь не означает, что полемика с ней ушла из романа. Известно, что он писал «Приглашение на казнь» параллельно с четвертой главой будущего «Дара» – жизнеописанием Чернышевского, которое полемически противопоставлено романизированным биографиям Тынянова, и, как представляется, этот принципиальный спор продолжился и в разработке темы «Поэт в тюрьме». Уже отмечалось, что судьба набоковского Цинцинната – узника, приговоренного к смертной казни за мыслепреступление и заточенного в крепость, – спроецирована на несколько исторических, мифологических и литературных прототипов: казнь Сократа, обезглавливание Иоанна Крестителя, легенду о Тассо (через сонет Бодлера «Тасс в темнице»), гибель на гильотине жертв Французской революции, прежде всего короля Людовика XVI и Андре Шенье, убийства русских поэтов – Рылеева, Пушкина, Лермонтова (Цинцинната ведут на его собственную тризну «кремнистыми тропами»), Гумилева[119]. В этот ряд хорошо вписывается и реконструированная Тыняновым в романе «Кюхля» судьба Вильгельма Кюхельбекера – поэта, приговоренного к смертной казни, а потом помилованного, одинокого узника, проведшего в крепостях без малого 10 лет. Когда Цинциннат, воображая идеальную, благую потусторонность, пишет: «Там – неподражаемой разумностью светится человеческий взгляд; там на воле гуляют умученные здесь чудаки» [IV: 101], ассоциация с умученным Кюхлей, архетипическим чудаком русской словесности, напрашивается сама собой. Выход из «тупика тутошней жизни» он ищет и находит в вещих снах об инобытии, о неоплатоническом «там»:
Он есть, мой сонный мир, его не может не быть, ибо должен же существовать образец, если существует корявая копия. <…> Там, там – оригинал тех садов, где мы тут бродили, скрывались; там все поражает своею чарующей очевидностью, простотой совершенного блага; там все потешает душу, все проникнуто той забавностью, которую знают дети; там сияет то зеркало, от которого иной раз сюда перескочит зайчик [IV: 101–102].
В тюремной лирике Кюхельбекера центральное место занимают те же темы, что и в поэтической прозе Цинцинната. Он тоже устремляется мечтой туда, «где ужаса и скорби нет, / Где блеском вечного сиянья / Господень вертоград одет» («Молитва»)[120]; тоже видит вещие сны об инобытии, противопоставленном темному «здесь» («Здесь тьмой душа моя одета; / Но, будто дальней церкви звон, / И здесь сквозь тайный, вещий сон / Гул слышу райского привета…» – («Смерть»)[121]; тоже «рвется в оный край безбрежный, / Где все покорно красоте, / Где правда, свет и совершенство» («Мое предназначение»)[122]. В стихотворении «Елисавета Кульман» Кюхельбекер, как и Набоков, строит картину потусторонности на анафоре «там»:
Берег ли священной Леты,Ты ли, тихая луна, —Но я верю: есть страна,Где герои, где поэтыНе страдают, где ониВ плоть нектарную одеты,Где и их безбурны дни.Там ни зол, ни гроз, но ночиИх божественные очиУж не видят; вход тудаЗагражден для черни шумной;Там не вопят никогдаДикий смех и рев безумный;Вся волшебная странаТонет в багрянце заката;Воздух весь из аромата;Там, гармонии полна,В ясных токах, вечно чистых,Под навесом лоз душистых,Как алмаз, горит волна.Там, в прохладе райской сени,Без вражды овца и лев;В слух мужей и жен и девУж не стоны и не пениЛьются песни соловья;Там блаженству внемлют тениВ самом лепете ручья.Там все тучи, все печалиСветлой радостию стали;Там дыханье клеветыНе затмит сиянья славы;Там в святыне красотыНет ни лести, ни отравы.Отдохну же там и я!Нужно мне отдохновенье:Бед забвенье, ран целеньеТам найдет душа моя…Слышу неземные звуки,К теням простираю руки:Ждут бессмертные друзья[123].Важнейший мотив поздней лирики Кюхельбекера – «свиданье там» с великими поэтами прошлого или с умершими друзьями – перекликается с концовкой «Приглашения на казнь», где Цинциннат направляется «в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему». Разумеется, Кюхельбекер лишь варьирует романтический топос элизийской встречи поэтов[124], но тот факт, что он пишет о ней в крепости и ссылке, сближает его стихи с набоковским романом сильнее, чем другие разработки топоса в русской и мировой поэзии.
Трагическое одиночество Цинцинната в заточении тоже имеет параллели в судьбе и стихах Кюхельбекера. Когда герой Набокова осознает, что «нет в мире ни одного человека, говорящего на моем языке; или короче: ни одного человека, говорящего; или еще короче: ни одного человека…» [IV: 102], это напоминает дневниковую запись Кюхельбекера, которую Набоков цитировал в комментарии к «Евгению Онегину»: «Если человек был когда несчастлив, так это я: нет вокруг меня ни одного сердца, к которому я мог бы прикоснуться с доверенностью»[125]. В финале романа Цинциннат начинает понимать, что все его надежды на спасение в «тупике тутошней жизни» были иллюзорными, и пишет: «Все сошлось, <…> то есть все обмануло, все это театральное, жалкое. <…> Все обмануло, сойдясь, все» [IV: 174]. По всей вероятности, Набоков цитирует здесь одно из лучших стихотворений Кюхельбекера «Три тени» («На диком берегу Онона я сидел…»), написанное в ссылке, где есть такие строки: «В глухих твердынях заточенья. / Все обмануло, кроме вдохновенья»[126].
На связь Цинцинната с Кюхлей косвенно указывает уничижительная самооценка Цинцинната, сравнивающего свои писания со стихами Ленского: «…пишу я темно и вяло, как у Пушкина поэтический дуэлянт» [IV: 100]. Набоков вполне мог знать авторитетное свидетельство Плетнева, заметившего, что в Ленском Пушкин «мастерски обрисовал» Кюхельбекера, – если не по первоисточнику, то по статьям И. Н. Розанова и Тынянова, в которых это свидетельство приводилось[127]. Кроме того, о том, что Кюхельбекер был прототипом Ленского, писал Лев Поливанов в популярном издании Пушкина «для семьи и школы», выдержавшем три издания и использовавшемся как учебное пособие в гимназиях и училищах[128]. Прямые и скрытые отсылки к Пушкину в романе[129] лишь подчеркивают родство двух узников, потому что оба они в каземате думают о нем, цитируют его стихи, преклоняются перед ним.
Если Набоков действительно имел в виду Кюхельбекера, то он должен был так или иначе вступить в диалог с нашумевшим романом Тынянова, который он вряд ли пропустил[130]. Заключение Кюхельбекера в крепостях обрисовано в романе Тынянова чрезвычайно сжато, всего в трех коротких главках, но некоторые мотивы этих эпизодов имеют параллели в «Приглашении на казнь». Так, в Шлиссельбурге Кюхля, расхаживая по камере и изучая ее топографию, внимательно читает надписи на стенах, оставленные прежними узниками[131]. Точно так же читает загадочные надписи на стенах расхаживающий по камере Цинциннат (см. [IV: 57]). «Странным запрещениям», которыми тюремщики у Тынянова мучают узника, – «Бегать по камере нельзя <…> Разговаривать запрещается <…> Бить головой о стену не полагается <…> И плакать громко тоже нельзя»[132], – в «Приглашении на казнь» соответствуют еще более абсурдные «восемь правил для заключенных» («1. Безусловно воспрещается покидать здание тюрьмы. <…> 4. Воспрещается приводить женщин. 5. Петь, плясать и шутить со стражниками дозволяется только по общему соглашению и в известные дни…» и т. п. [IV: 72])[133].
И Тынянов, и Набоков обыгрывают традиционный, имеющий фольклорные корни сюжет «Добрая/влюбленная дочь тюремщика помогает узнику», известный по целому ряду пьес, начиная с «Двух знатных родичей» Шекспира и Флетчера, романов («Пармская обитель» Стендаля, «Черный тюльпан» Дюма и т. п.) и стихотворений, среди которых прежде всего следует назвать «Соседку» Лермонтова, перифразированную в «Приглашении на казнь» (см.: [IV: 71]). Тынянов придумывает дочь коменданта Динабургской крепости, полковника Егора Криштофовича, – «зрелую девицу лет тридцати, скучавшую и толстевшую в комендантском доме за горшками с бальзаминами»[134]. Она, как и положено по сюжету, проникается симпатией к новому узнику, решив, что «человек с такими глазами не может быть вредным преступником», и добивается от отца послаблений ему[135]. Набоков берет тот же сюжет, но иронически инвертирует его, разрушая банальные надежды Цинцинната на банально-литературное спасение: малолетняя дочь директора тюрьмы Эммочка сначала обещает Цинциннату его спасти, а затем обманывает, разыграв с ним злую шутку.
Подобные схождения можно было бы отнести на счет тюремной топики, если бы Набоков не ввел в текст два взаимосвязанных символических мотива, которые к топосам тюрьмы прямого отношения не имеют, но появляются и в тюремных главах «Кюхли»: дуализм творческой личности и относительность величин, как физических, так и – в переносном смысле – социально-психологических. У Тынянова личность Кюхельбекера в крепости расщепляется на две составляющие – Вильгельма и Кюхлю, дневную и вечернюю, рациональную и иррациональную, сознательную и бессознательную, Эго и Ид:
<…> один Виля, Кюхля – был бедный человек <…> и вот теперь этот бедный человек прыгал по клетке и считал свои годы, которые ему осталось провести в ней, даже не зная, собственно, хорошенько, на сколько лет его осудили. <…> А другой человек, старший, распоряжался им с утра до ночи, ходил по камере, сочинял стихи и назначал Виле и Кюхле воспоминания и праздники. <…> Но по ночам старший Вильгельм исчезал, и в камере оставался один Вильгельм – прежний. И снами своими узник № 16 распоряжаться не умел. <…> Вой несся из камеры № 16, удушливый, сумасшедший вой и лай[136].
Крайне важно, что за сочинение стихов отвечает «дневной», старший Вильгельм, то есть поэтическое творчество для Кюхельбекера, согласно Тынянову, – это не внутренняя потребность, а рациональный волевой акт. При этом оторванный от литературной среды, не участвующий в живом движении литературы, «дневной» Кюхельбекер как бы теряет символический вес и сокращается в размерах:
Когда-то, когда он жил у Греча и работал у Булгарина, Вильгельм чувствовал себя Гулливером у лилипутов. Теперь он сам стал лилипутом, а вещи вокруг – Гулливерами[137].
Исторический Кюхельбекер вряд ли бы согласился со столь уничижительной оценкой его тюремного творчества. В стихах и дневниковых записях он неизменно подчеркивал иррациональную природу «утешительного огня поэзии»[138], даруемого ему свыше, и повторял вслед за Державиным горацианскую формулу non omnis moriam!:
Меня взлелеял ангел песнопенья,И светлые, чудесные виденьяЗа роем рой слетают в мой приют;Я вижу их: уста мои поют,И райским исполняюсь наслажденьем.И (да вещаю ныне с дерзновеньем!)Не все, так уповаю я, умрутКрылатые души моей созданья:С лица земного свеется мой прах,Но тот, на чьем челе печать избранья,Тот и в далеких будет жить веках;Не весь истлею я… <…>Я на земле, в тюрьме я только телом,Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
См. Долинин А. Комментарий к роману Владимира Набокова «Дар». М., 2019. С. 558–592.
2
Набоков В. Лолита. Перевел с английского автор. Анн Арбор, 1967. С. 295.
3
Там же.
4
В основу статьи положен мой одноименный англоязычный доклад, прочитанный в марте 1997 на симпозиуме по русско-немецким культурным контактам в Университете штата Миссури и позднее опубликованный как глава 15 в сборнике: Cold Fusion. Aspects of the German Cultural Presence in Russia / Ed. by G. Barabtarlo. New York, Oxford, 2000. P. 225–240.

