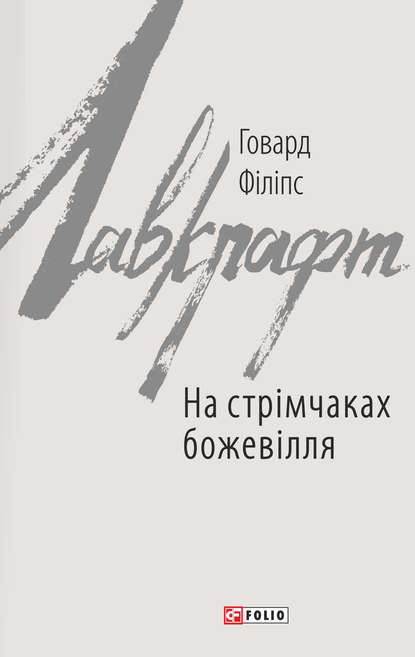- -
- 100%
- +
И правда, квартира стала моим убежищем. Высокие потолки, паркет, который скрипит в одном месте у окна, старые батареи, которые зимой поют свои песни. В комнате мой письменный стол у окна, заваленный рукописями, стеллаж с книгами и кровать. На стенах – репродукции, которые я покупала на книжных развалах, и моя единственная дорогая покупка – акварель молодого художника с Арбата.
Кухня крошечная, но уютная. Я нашла в антикварной лавке чайник в горошек и расставила на подоконнике банки с травами. Получилось очень по-домашнему, хотя дом этот не мой.
Когда я только въехала, квартира казалась огромной и пустой. Теперь она обжита, пропитана запахом кофе и старых книг, согрета моими привычками и мечтами. Здесь хорошо думается, здесь рождаются стихи.
Захожу в прихожую, и тут же звонит мама из Петербурга:
– Детка, как дела? Что-то голос у тебя какой-то веселый.
– Все хорошо, мам. Просто хорошее настроение.
– Случилось что-то?
– Нет, ничего особенного. Просто хороший день был.
После разговора сижу за столом и пытаюсь писать. Но вместо стихов на бумаге появляется его имя, выведенное разными почерками. "Женя", "Евгений", "Е.В.". Как школьница, честное слово.
Ложусь спать поздно, но засыпаю быстро. И снится мне осенний двор, камера, и я читаю стихи, а он смотрит на меня так, как будто я – самое удивительное, что есть в этом мире.
Просыпаюсь с улыбкой и пониманием: что-то началось. Что-то важное, настоящее, пугающее и прекрасное одновременно. И я готова узнать, куда это меня приведет.
Глава 5
Утром я просыпаюсь раньше будильника с каким-то странным ощущением, будто мир стал ярче, а воздух слаще. Только потом вспоминаю: сегодня съемка. Сегодня я увижу Женю.
Стою перед открытым шкафом и понимаю, что понятия не имею, что надеть для съемок документального фильма. В конце концов выбираю то, в чем чувствую себя собой – темно-серое платье-свитер, высокие сапоги и свое любимое винтажное пальто. Волосы оставляю распущенными.
В институте весь день не могу сосредоточиться. На семинаре по сценарному мастерству преподаватель разбирает диалоги, а я думаю о том, что буду говорить в кадре. На лекции по истории кино обсуждают неореализм, а я представляю, как буду читать стихи перед камерой.
– Ларина, вы с нами? – окликает меня преподаватель.
– Да, конечно, – краснею я, возвращаясь в реальность.
– Тогда скажите, в чем особенность операторской работы Феллини?
Каким-то чудом выкручиваюсь, отвечаю про субъективную камеру и поэтичность планов. Но мысли все равно где-то далеко.
После пар выхожу из института и сразу же вижу его. Женя стоит у входа с камерой на плече и треногой в руках, разговаривает с каким-то парнем. Увидев меня, улыбается той особенной улыбкой, от которой у меня подкашиваются ноги.
– Готова стать звездой? – спрашивает он, подходя ко мне.
– Готова сбежать, – отвечаю я честно.
– Поздно. Оборудование уже настроено, оператор ждет. Знакомься – это Сережа, мой друг и правая рука.
Парень машет мне рукой:
– Привет! Женька о тебе уже все уши прожужжал.
– Сережа! – одергивает его Женя, и я с интересом отмечаю, как он слегка краснеет.
– Что именно он говорил? – спрашиваю я, чувствуя, как играю в какую-то новую для себя игру.
– Что ты гениальный поэт и что…
– Сереж, может, поедем? – прерывает его Женя. – Света на улице осталось часа два максимум.
Едем на старый Арбат в Сережиной машине. Я сижу на заднем сиденье, слушаю, как они обсуждают технические детали съемки, и пытаюсь унять дрожь в руках. Блокнот со стихами лежит у меня на коленях как талисман.
– Волнуешься? – спрашивает Женя, повернувшись ко мне.
– Ужасно.
– Это нормально. Все волнуются перед камерой. Главное, забыть о ней и просто разговаривать со мной.
– Легко сказать.
– А ты представь, что мы снова в том кафе. Только вместо капучино у тебя в руках блокнот.
Машина останавливается возле старинного дома на Арбате. Женя ведет нас через арку во двор, и я замираю от восторга. Это не двор – это декорация к фильму о старой Москве. Мощеная брусчатка, кованые фонари, желтые листья кленов, засыпавшие скамейки. В углу двора – старинный особняк с облупившейся лепниной, и даже облупленность эта кажется нарочитой, художественной.
– Здесь жил когда-то известный издатель, – рассказывает Женя, пока Сережа устанавливает камеру. – В начале века тут собирались поэты. Говорят, бывал даже Блок.
– Правда?
– Не знаю, – смеется он. – Но красивая легенда, согласись.
Сережа машет нам рукой:
– Готово! Можно начинать.
И вот я стою перед камерой, держу в руках блокнот и понимаю, что забыла, как дышать. Объектив смотрит на меня немигающим глазом, красная лампочка горит.
– Инга, – говорит Женя мягко, – посмотри на меня, а не на камеру.
Перевожу взгляд на него. Он стоит рядом с Сережей, и в его глазах такая поддержка, такое тепло, что дыхание постепенно выравнивается.
– Расскажи, как ты начала писать стихи, – просит он.
– Я… – голос дрожит. – Я не помню, когда начала. Кажется, всегда писала. В детстве складывала рифмы про кота, потом про дождь, потом… Ну а потом поняла, что это не игра, а необходимость.
– Необходимость?
– Ну да. Как дышать. Если долго не пишу, начинаю задыхаться от невысказанности.
Женя кивает, и я вижу, что он понимает. Это придает смелости.
– А что для тебя поэзия? – спрашивает он.
– Поэзия – это… – я задумываюсь, ищу слова. – Это способ поймать мгновение и сделать его вечным. Это попытка сказать то, для чего обычные слова слишком грубы. Это…
Останавливаюсь, боясь показаться пафосной.
– Продолжай, – подбадривает Женя.
– Это единственный язык, на котором можно разговаривать с одиночеством.
Тишина во дворе становится почти осязаемой.
– Прочитай что-нибудь, – просит Женя тихо.
Открываю блокнот, листаю страницы. Вчерашнее стихотворение про осень кажется слишком личным. Нахожу другое. Про этот город, про то, как Москва умеет быть жестокой и нежной одновременно.
– Это называется "Московские дворы", – говорю я и начинаю читать:
"В московских дворах живут привидения -
не страшные, а грустные.
Они помнят, как здесь
танцевали на выпускных,
целовались первый раз,
прощались навсегда.
Привидения сидят на скамейках
и листают прошлое,
как старые фотографии.
А мы проходим мимо,
торопимся в будущее
и не замечаем,
что когда-нибудь
и мы станем привидениями
в чьих-то дворах".
Заканчиваю читать и поднимаю глаза. Женя смотрит на меня так, будто видит впервые. В его взгляде восхищение и удивление.
– Это потрясающе, – говорит он. – Совершенно потрясающе.
– Да ладно, – смущаюсь я.
– Нет, серьезно. У тебя особенный дар: ты видишь душу города. А теперь прочитай еще что-нибудь, только более личное.
Листаю блокнот дальше. Нахожу стихотворение, которое писала несколько дней назад, еще до нашей встречи. Теперь оно кажется пророческим:
"Я всегда думала,
что одиночество – это диагноз.
Неизлечимый, хронический,
как близорукость или плоскостопие.
Ходила к докторам-друзьям,
глотала пилюли-вечеринки,
мазалась мазью общения,
но ничего не помогало.
А оказалось,
одиночество – это не болезнь.
Это просто ожидание.
Кого-то, кто будет говорить
на том же языке,
что и ты".
Тишина после стихотворения длится так долго, что я начинаю волноваться. Смотрю Женю. Он стоит неподвижно, и в его глазах что-то очень серьезное.
– Стоп, – говорит он наконец Сереже. – Достаточно на сегодня.
– Как стоп? – удивляется тот. – Мы же только начали.
– Стоп, – повторяет Женя твердо. – Инга, подойди ко мне.
Я подхожу, и он берет меня за руки. Его ладони теплые, немного дрожат.
– Откуда у тебя это стихотворение? – спрашивает он тихо.
– Написала на днях. А что?
– Ты понимаешь, о чем оно?
– Нууу… Об одиночестве. О том, как ждешь понимания.
– Инга, – он делает паузу, – а что если ожидание закончилось?
Глава 6
Воздух между нами вдруг становится густым, наэлектризованным. Я смотрю в его глаза и понимаю, что мы говорим не о стихах.
– Я… не знаю, – неуверенно шепчу я.
– А я знаю, – говорит он и наклоняется ко мне.
Поцелуй получается совсем не таким, как в книгах или фильмах. Не страстным, не драматичным. Он нежный, осторожный, вопросительный. Как будто Женя спрашивает разрешения, а я отвечаю согласием.
– Эм, ребят, – раздается голос Сережи, – может, я пойду оборудование в машину отнесу?
Мы отстраняемся друг от друга, и я чувствую, как лицо вспыхивает от смущения.
– Да, Сереж, спасибо, – говорит Женя, не сводя с меня глаз. – Мы скоро подойдем.
Сережа исчезает, а мы остаемся одни во дворе, где, возможно, когда-то бывал Блок и где сейчас происходит что-то очень важное.
– Не жалеешь? – спрашивает Женя.
– О чем?
– О том, что согласилась на съемку. О том, что пришла сюда.
Я думаю несколько секунд.
– Не жалею, – говорю я. – А ты?
– О чем мне жалеть?
– О том, что связался со странной поэтессой.
– Инга, – он берет мое лицо в ладони, – ты не странная. Ты настоящая. А это в наше время большая редкость.
– Может, покажешь мне свои любимые места в Москве? – спрашиваю я вдруг. – Те, что не для всех?
Его глаза загораются:
– Серьезно? У тебя есть время?
– Вся жизнь впереди.
– Тогда пошли. Только предупреждаю – это будет долгая прогулка.
– А я и не тороплюсь никуда.
Мы идем к машине, где ждет Сережа, и я понимаю, что этот день стал переломным. Что-то кончилось – время ожидания, одиночества, жизни в придуманном мире. И что-то началось – что именно, пока неясно, но от этой неопределенности кружится голова.
– Сереж, – говорит Женя, подходя к машине, – ты нас можешь на Патриарших высадить?
– Конечно. А оборудование?
– Увезешь домой. Мы сегодня закончили со съемками.
В машине я сижу рядом с Женей, и наши руки как-то сами собой находят друг друга. Его пальцы переплетаются с моими, и это кажется самым естественным жестом в мире.
– А что мы будем делать на Патриарших? – спрашиваю я.
– Увидишь. Там одно место особенное есть. Особенно в это время суток.
Машина петляет по вечерним московским улицам, фонари уже зажглись, но темнота еще не полная. Такое особенное время, когда день превращается в вечер, а обычное в волшебное.
Вот и Патриаршие пруды. Сережа высаживает нас у входа в сквер.
– Удачи, – говорит он с хитрой улыбкой и уезжает, оставляя нас одних.
Женя берет меня за руку, и мы идем в сквер. Народу мало, видимо, все уже разошлись по домам, а те, кто остался, торопятся покинуть парк до полной темноты. Но Женя ведет меня не к пруду, как я ожидала, а в противоположную сторону.
– Куда мы идем? – спрашиваю я.
– К месту, где Булгаков встретил дьявола, – отвечает он с такой серьезностью, что я не сразу понимаю, шутит он или нет.
– Женя, это же выдумка.
– А ты уверена? – Он останавливается и поворачивается ко мне. – Вообще-то я хочу показать тебе скамейку, на которой Берлиоз и Бездомный беседовали с Воландом. Не ту, туристическую, а настоящую.
– Настоящую? – В голосе сквозит недоверие.
– Настоящую. Та, что с памятником – для обывателей. А есть еще одна, совсем неприметная, в глубине сквера. Булгаков сам мне показывал.
– Женя, Булгаков умер за двадцать лет до твоего рождения.
– Ну хорошо, хорошо, – смеется он. – Просто место особенное. Увидишь.
Мы углубляемся в сквер. Фонари здесь горят тусклее, деревья смыкаются над дорожкой, и действительно становится как-то таинственно. Женя ведет меня по боковой тропинке, почти заросшей, и вдруг останавливается:
– Вот.
Передо мной обычная старая скамейка, облезлая, потертая. Но стоит она в очень красивом месте, в небольшой ложбинке, окруженной старыми липами. Отсюда пруд не виден, но слышно, как тихо плещется вода. И главное, отсюда не слышен городской шум. Кажется, что мы попали в какой-то заповедный уголок старой Москвы.
– Садись, – говорит Женя.
Сидим молча. Я смотрю на него украдкой.
– Расскажи, как ты нашел это место, – прошу я.
– Случайно. Года два назад бродил тут один, думал над сценарием. Нашел эту скамейку, сел, и вдруг все как-то сложилось в голове. С тех пор прихожу сюда, когда нужно подумать о чем-то важном.
– А сейчас? О чем думаешь?
Он поворачивается ко мне:
– О том, что жизнь штука непредсказуемая. Еще неделю назад я был уверен, что знаю, чего хочу. Закончить институт, снять несколько фильмов, завоевать признание… А сегодня сижу на скамейке с девушкой, которая читает Бродского в метро, и понимаю, что все мои планы – полная ерунда.
– Почему ерунда?
– Потому что в них не было тебя.
Я чувствую, как внутри все переворачивается. Это слишком красиво, чтобы быть правдой. Слишком идеально. И в то же время я верю каждому его слову.
– Женя, мы знакомы два дня.
– И что? Разве есть какая-то норма? Три дня, неделя, месяц?
– Есть здравый смысл.
– К черту здравый смысл, – говорит он и встает. – Пошли, покажу тебе еще одно место.
Глава 7
Мы выходим из сквера и идем по Малой Бронной. Женя шагает быстро, увлеченно рассказывает:
– Знаешь, в чем проблема нашего поколения? Мы слишком много думаем. Анализируем, взвешиваем, сомневаемся. А наши деды в восемнадцать шли в бой и не мучили себя вопросами, правильно это или нет. Наши родители в двадцать женились, рожали детей и строили коммунизм. А мы все боимся ошибиться.
– Может, это и правильно – бояться?
– Инга, – он останавливается посреди тротуара, – а что если мы ошибемся, не если что-то сделаем, а если что-то НЕ сделаем?
Я не успеваю ответить, потому что он снова берет меня за руку, и мы сворачиваем в какой-то переулок.
– Куда теперь?
– В самое романтическое место Москвы. Которое почему-то никто не знает.
Переулок узкий, застроенный старыми домами. Фонари едва освещают дорогу, и я начинаю немного волноваться. Но Женя идет уверенно.
– Вот, – говорит он, останавливаясь возле невзрачной арки между домами.
– Что это?
– Сейчас увидишь.
Мы проходим арку и попадаем… в сказку. Передо мной крошечный дворик, больше похожий на большую комнату под открытым небом. Стены старых домов образуют почти правильный квадрат, а в центре растет огромная старая яблоня. Земля под ней усыпана опавшими листьями, золотыми и красными.
– Боже мой, – шепчу я. – Как красиво!
– Правда? А теперь посмотри наверх.
Поднимаю голову и ахаю. Дворик настолько маленький и так окружен домами, что кусочек неба над ним кажется идеально круглым. И в этом круге – звезды. В Москве, где звезд почти не видно из-за подсветки, здесь они сияют, как в деревне.
– Как ты нашел это место?
– Заблудился год назад. Зашел в арку и обнаружил этот дворик. Хотел уйти, но тут в одном из окон кто-то включил радиоприемник, зазвучала музыка, и я остался. Простоял здесь минут сорок, слушал и смотрел на звезды.
Мы садимся прямо на землю, прислонившись спинами к стволу яблони. Женя снимает свою куртку и подстилает мне.
– Не простудишься?
– Не простужусь. Зато ты не замерзнешь.
Сидим и смотрим на звезды. В какой-то момент Женя начинает тихо говорить:
– Знаешь, чего я больше всего боюсь? Что вся эта красота – театр, архитектура, литература, кино – исчезнет. Что люди перестанут это ценить, перестанут понимать. Что через двадцать лет никому не нужен будет Бродский, которого ты читаешь в метро.
– Не исчезнет, – говорю я. – Не может исчезнуть. Всегда будут люди, которые чувствуют красоту.
– Откуда такая уверенность?
– Потому что мы есть. Ты и я. И если есть мы, значит, есть и другие.
Он поворачивается ко мне:
– Вот за это я тебя и… – он не договаривает.
– Что? – спрашиваю я, хотя сердце уже колотится.
– За это я тебя и полюбил, – говорит он просто.
Мир вокруг замирает. Даже ветер перестает шуметь в листьях яблони.
– Женя…
– Не надо ничего говорить. Просто знай. Я не верил в любовь с первого взгляда, считал это глупым романтическим штампом. А теперь понимаю: она действительно существует. Только происходит не с первого взгляда, а с первого слова. С первого услышанного стихотворения. С первого понимания, что встретил родственную душу.
Я молчу, потому что не знаю, что сказать. Внутри радость, страх, недоверие, надежда.
– Ты не обязана отвечать тем же, – продолжает он. – Просто позволь мне быть рядом с тобой. Позволь показать тебе еще сто таких мест, поделиться своими фильмами и снять историю по твоим сценариям.
– Женя, – говорю я наконец, – а что если это просто… Ну не знаю, эмоциональный всплеск? Романтическая обстановка, звезды, твои красивые слова?
– А что если нет? – Он берет мою руку. – Что если это то самое настоящее, которое мы оба ищем в своем творчестве?
Я смотрю в его глаза и вижу там не только влюбленность, но и что-то более глубокое. Понимание. Признание. Как будто он действительно видит меня – не красивую картинку, а меня настоящую, со всеми странностями и противоречиями.
– Покажешь еще какое-нибудь место? – спрашиваю я вместо ответа.
– Покажу. Но сначала… – Он наклоняется и целует меня снова. На этот раз поцелуй получается другим. Не вопросительным, а утверждающим. И я понимаю, что отвечаю ему с той же уверенностью.
Когда мы отстраняемся друг от друга, из окна одного из домов доносится тихая мелодия. Кто-то играет на пианино старый романс.
– Это словно специально, – смеюсь я. – Такое не может быть случайностью.
– В Москве все возможно, – говорит Женя. – Особенно в такие вечера, как сегодня.
Мы поднимаемся, отряхиваем одежду и выходим из волшебного дворика на улицу.
– Следующее место далеко? – спрашиваю я.
– Не очень. Дойдем пешком. Только предупреждаю – оно совсем не похоже на предыдущие.
– В каком смысле?
– Увидишь.
Мы идем по пустым московским переулкам, и я чувствую себя героиней старого фильма. Или старой книги. Романтичность ситуации кажется почти нереальной, но в то же время все происходящее очень живое, настоящее.
– Женя, а твои родители не волнуются, что ты до сих пор не дома?
– Нет, они привыкли, что я поздно прихожу. А твои родители?
– У меня только мама. Она в Петербурге. И тоже привыкла к моему режиму.
– Значит, мы свободны, – говорит он и сжимает мою руку.
Глава 8
Евгений
Я смотрю на Ингу, которая идет рядом со мной по ночной Москве.
Она не такая, как все остальные. Совсем не такая. Когда другие девушки говорят о кино, они обсуждают актеров и сплетни. Инга же видит в каждом фильме философию, поэзию, отражение человеческой души. Когда я показал ей свои режиссерские наброски, она не сказала дежурное "как интересно", а задала такие вопросы, которые заставили меня по-новому взглянуть на собственные идеи.
И эти ее стихи… Боже, как она пишет! Каждая строчка – это не просто слова, а целый мир. Мир, в котором я хочу жить, который хочу снимать, который хочу показывать людям. Когда она читала про московские дворы и привидения, у меня по коже побежали мурашки. Она видит город так же, как вижу его я. Она чувствует то же одиночество среди толпы, ту же тоску по настоящему среди фальши.
– Куда мы идем? – спрашивает она, и в ее голосе нет ни капли недоверия. Она просто идет за мной, потому что доверяет. Когда в последний раз кто-то доверял мне так безоговорочно?
– К месту, которое покажет тебя мне с другой стороны, – отвечаю я загадочно.
Мы сворачиваем на Тверскую, потом на Камергерский переулок. Народу почти нет, только редкие прохожие торопятся по своим делам. Инга идет рядом, и ее длинное черное пальто развевается на ветру. В тусклом свете фонарей она кажется героиней старого французского фильма – утонченной, загадочной, немного не от мира сего.
Мы останавливаемся возле ничем не примечательного подъезда. Инга смотрит на меня вопросительно, и я чувствую, как внутри поднимается волнение. Сейчас я покажу ей место, которое не показывал еще никому. Даже Сережа не знает о нем.
– Это дом моей бабушки, – говорю я, доставая ключи.
– И ты хочешь…
– Хочу показать тебе крышу. Там особенное место.
Поднимаемся медленно, игнорируя лифт, на седьмом этаже открываю техническую дверь, ведущую на чердак. Инга поначалу смотрит с опаской: там темно, пахнет пылью и старым деревом.
– Осторожно, здесь балки низкие, – предупреждаю я, включая фонарик.
Проходим через чердак к еще одной двери. Ее я нашел сам, год назад, когда понял, что задыхаюсь от городской суеты, от людей, от необходимости постоянно кому-то что-то доказывать.
– А теперь закрой глаза, – прошу я.
– Женя…
– Пожалуйста. Доверься мне.
Она закрывает глаза, и я осторожно веду ее за руку. Открываю дверь на крышу, и нас обдает прохладным октябрьским воздухом.
– Теперь можешь открыть.
Инга открывает глаза и замирает. Передо мной весь ночной город: огни, улицы, далекие окна квартир, где люди живут своими жизнями. Но самое главное не это. Самое главное то, что в углу крыши, за трубой под навесом я устроил себе маленькое убежище. Старое кресло, которое вытащил с чердака и отреставрировал. Небольшой столик. Полка с книгами в водонепроницаемом ящике.
– Боже мой, – шепчет Инга. – Это твое…
– Убежище. Место, где я думаю, читаю, пишу. Откуда я смотрю на город и понимаю, какие истории хочу рассказать.
Она медленно подходит к краю крыши, опирается на парапет. Ветер треплет ее волосы, и в свете городских огней она выглядит совершенно нереально. Как будто сошла с экрана черно-белого фильма.
– Как красиво, – говорит она тихо. – И как одиноко.
– Да. Одиноко, – соглашаюсь я. – Я поднимался сюда, когда мне казалось, что никто меня не понимает. Когда все вокруг говорили о карьере, деньгах, связях, а я хотел говорить о смысле, о красоте, о том, зачем мы вообще живем.
Инга поворачивается ко мне:
– И что ты чувствовал?
– Чувствовал, что я не такой, как все. Что со мной что-то не так. Все мои однокурсники знали, чего хотят: снять коммерческий фильм, заработать денег, стать знаменитыми. А я сидел здесь и мечтал снимать кино, которое будет задавать вопросы, а не давать готовые ответы. Кино, которое заставит людей думать, чувствовать, меняться.
– А теперь?
Я подхожу к ней, беру за руки:
– А теперь я понимаю, что со мной все в порядке. Потому что я встретил тебя. И ты такая же. Ты тоже не хочешь писать то, что модно. Ты пишешь то, что чувствуешь. То, что важно.
Инга смотрит на меня, и в ее глазах отражаются городские огни:
– Знаешь, всю жизнь я думала, что я странная. В школе – потому что читала стихи вместо глянцевых журналов. В институте – потому что меня больше интересует внутренний мир героев, чем сюжетные повороты. Все говорили: "Инга, ты слишком серьезная, слишком сложная, слишком…" – она ищет слова.
– Слишком настоящая, – подсказываю я.
– Да! Слишком настоящая для этого мира. А здесь, на твоей крыше, рядом с тобой я впервые чувствую себя не странной, а особенной.
Что-то переворачивается у меня в груди. Я притягиваю ее к себе, и мы стоим на краю крыши, обнявшись, а внизу шумит и сверкает огнями наша Москва.
– Инга, – говорю я на ухо, – хочешь, мы будем создавать красоту вместе? Ты будешь писать сценарии, я буду их снимать. Мы расскажем миру те истории, которые никто больше не рассказывает.
Она отстраняется, смотрит мне в глаза:
– Серьезно?
– Абсолютно серьезно. У меня уже есть идеи, а теперь, когда я прочитал твои стихи, я вижу, как это может работать. Твоя поэтичность плюс мой визуальный язык. Мы снимем фильмы, которые будут как стихи – глубокие, честные, настоящие.
– А что скажут в институте? Преподаватели любят более коммерческие проекты.
– А плевать мне на преподавателей! – вырывается у меня. – Прости, но это правда. Мне надоело подстраиваться под чужие представления о том, каким должно быть кино. Хочу снимать так, как чувствую.
Инга улыбается, и эта улыбка стоит всех одобрений всех преподавателей мира:
– Тогда да. Давай попробуем.
Я беру ее за руку и веду к своему креслу:
– Садись. Хочу прочитать тебе отрывок из сценария, который пишу. Теперь я понимаю, чего в нем не хватало.
– Чего же?
– Тебя. Твоего взгляда на мир. Твоей поэзии.
Инга садится в кресло, я достаю из ящика потрепанную тетрадь. Сажусь на подлокотник, открываю на нужной странице:
– Это история о режиссере, который ищет смысл в искусстве и находит его в любви. Называется "Крыши Москвы".