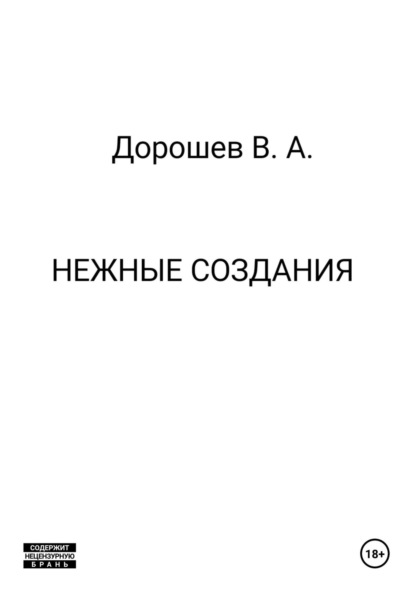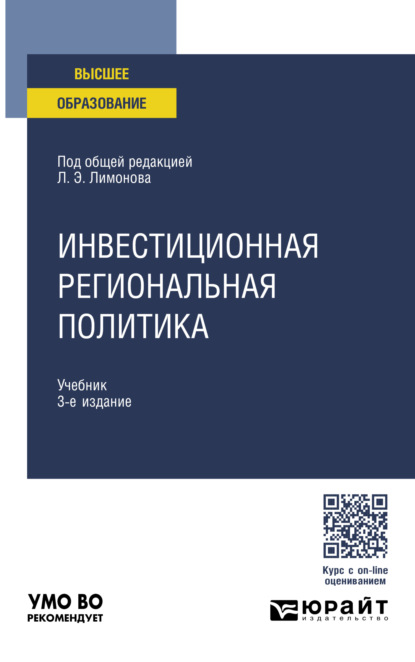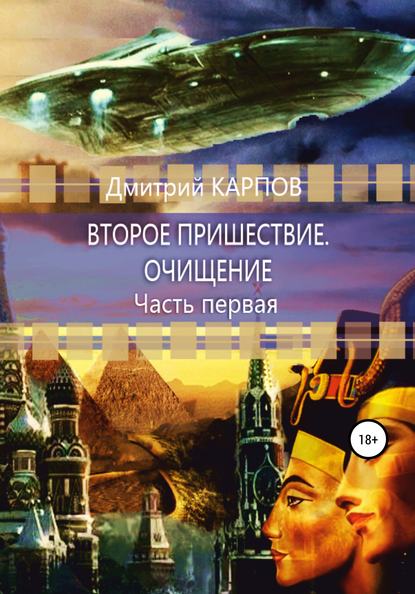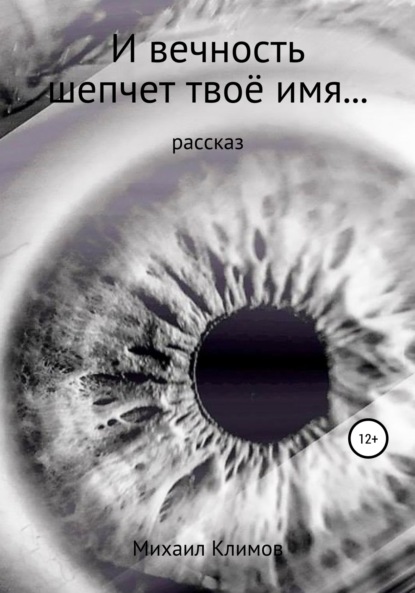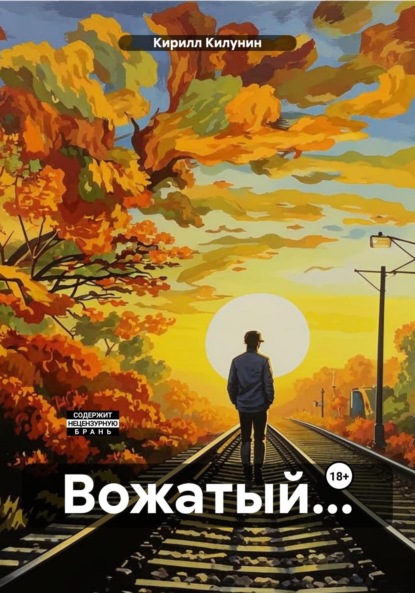- -
- 100%
- +

"НЕЖНЫЕ И НЕСВОБОДНЫЕ: КОНТРКУЛЬТУРА, КОТОРАЯ НЕ СПАСЛА"
Литературно-психологическое и философское эссе по мотивам «Нежных созданий» В. А. Дорошева
Введение
В повести В. А. Дорошева «Нежные создания» термин «революция» не связан с политикой. Это слово обозначает попытку молодых быть другими, не растворяться в повседневном, жить «по-своему». Революция здесь – это нонконформизм, молодежные движения, контркультура, рок-музыка, эстетика протеста.
Герои находятся в постоянном поиске идентичности: они слушают музыку, которая обещает свободу; читают книги, которые обещают глубину; пытаются держаться особняком, потому что боятся быть «как все». Но чем ярче они стремятся к свободе, тем сильнее чувствуют собственную хрупкость.
Это эссе рассматривает повесть в трёх измерениях – литературном, психологическом и философском – и показывает, как мечта быть другим сталкивается с невозможностью выдержать вес собственной инаковости.
I. Литературный анализ: мозаика юности, эстетика бунта и межтекстовые параллели
1. Рок-культура как литературный код
Музыка в «Нежных созданиях» – не просто фон. Она формирует ритм текста, способ выражения эмоций, язык поколения. Так, как у Керуака джаз определял структуру повествования, так у Дорошева рок создаёт эмоциональную волну, на которой держатся герои. Рок становится коммуникацией, исповедью, способом манифестировать себя. Это отражает литературную традицию:
у Хемингуэя – лаконичность и скрытая интенсивность;
у Брэдбери – эмоциональная светимость подросткового мира;
у Селинджера – нерв юности и неподдельность речи;
у Пастернака – честность внутреннего переживания;
у Платонова – стремление к невозможному идеалу.
2. Структура как отражение контркультурного сознания
Форма повести фрагментарна, словно альбом, собранный из отдельных треков – воспоминаний, разговоров, вспышек. Эта нарочитая незавершённость отражает стиль мышления героев, их неспособность к линейности. В русской литературе подобное можно увидеть у:
Чехова – «сюжеты без развязки»;
Тургенева – роман психологических состояний;
Набокова – культ эмоционального мгновения;
Достоевского – текучее сознание юных идеалистов.
В мировой – у:
Фолкнера;
Воннегута;
Паланика;
Мураками.
Это литературный язык поколения, которое не умеет выстроить жизнь по прямой линии.
3. Персонажи как часть традиции «вечных юношей»
Герои Дорошева – наследники большой линии образов юности: от Печорина, мечущегося между свободой и скукой до Обломова, знающего идеал, но не способного действовать, от Колфилда у Селинджера – до подростков Брэдбери, которые живут острее мира. Они все пытаются «быть другими» – и каждый по-своему терпит поражение перед жизнью.
4. Прямые параллели с русской рок-поэзией
Рок-поэзия в России всегда была чем-то большим, чем музыка – это форма философии, исповедь, хроника чувств поколения. Герои Дорошева живут в этой традиции:
Цой пел: «Мы ждем перемен» – но герои ждут, не зная, что именно должно измениться;
у Гребенщикова звучала мысль: «Каждый выбирает для себя» – но герои боятся выбора, потому что он делает их взрослыми;
Летов кричал: «Все идет по плану» – как издевку над липовой стабильностью. У героев всё не «по плану», но и планов они не имеют;
Янка Дягилева говорила от имени тех, кому «больно и страшно жить» – и это особенно близко героям повести, у которых протест – это тонкий, почти болезненный крик, а не действие.
Русский рок становится зеркалом их попыток жить честно – и одновременно напоминает, что честность всегда даётся тяжело.
II. Психологический анализ: хрупкость, впечатлительность и невозможность выдержать собственную свободу
Герои «Нежных созданий» нежные не в смысле мягкие – а в смысле предельно открытые, чувствительные, уязвимые к эмоциям и словам. Их стремление к непринятости – это способ спрятаться от боли: если не быть «как все», то и разочарование будет иным, особенным, почти оправданным.
1. Нежность как ранимость
"Революционеры" в повести болезненно воспринимают несправедливость, остро переживают одиночество, не способны к внутренней самоизоляции, легко идеализируют и так же легко разочаровываются. Это психологически роднит их с: Колфилдом («Над пропастью во ржи»), героями Достоевского, подростками у Брэдбери и Сэлинджера.
2. Контркультура как попытка обрести ориентир
Рок и субкультура дают героям язык и ярлыки, позволяющие хоть как-то описать себя: «я – другой», «я – не как они», «я – против». Но за этими словами нет внутренней опоры. Их бунт – эмоциональный, не структурный; импульсивный, не оформленный; искренний, но слабый.
3. Страх выбора
Психологически молодые боятся того, что выбор превращает человека из «возможности» в «определённость». Выбрав путь, они потеряют все остальные – а значит, потеряют иллюзию бесконечного будущего.
III. Философский анализ: нонконформизм как экзистенциальное испытание
Это раздел, где конфликт героев раскрывается глубже всего.
1. Нонконформизм как вызов самому себе
Герои хотят свободы, но не понимают, что свобода требует ответственности. Хайдеггер называл подлинность «способностью идти навстречу собственному бытию», Сартр говорил: «Человек обречён быть свободным» – но герои Дорошева к этой обречённости не готовы.
2. Контркультура как утешение и ловушка
Рок даёт эмоциональное преувеличение, ощущение полёта, но не даёт ответа на вопрос «кто я?». Это напоминает ситуацию 80–90-х годов:
когда Цой пел: «Это не любовь», он говорил о невозможности жить чужими чувствами;
когда Гребенщиков пел: «Серебро Господне, помоги мне быть собой» – он формулировал ту же просьбу, что звучит у героев;
Летов своей беспощадной честностью заставлял смотреть в пропасть внутренней правды;
Янка показывала, как протест становится болью и самоуничтожением.
Это не музыка о свободе – это музыка о цене свободы. Герои слышат эту интонацию, но не обладают внутренней силой, чтобы прожить её до конца.
3. Подлинность как недостижимая вершина
Герои лишь на пороге подлинности. Их честность – ещё не выбор, а эмоция, их сопротивление – не действие, а жест, их революция – не поступок, а мечта. Это роднит повесть с камюевским «бунтом», который не разрушает мир, а позволяет человеку обнаружить собственную границу.
4. Хрупкость как философская проблема
Экзистенциальная тревога – состояние, в котором человек сталкивается с неизбежностью выбора и непониманием, что с этим делать. Герои повести – хрупкие, трепетные, еще не готовые отвечать за себя. Их трагедия в том, что они: хотят быть свободными, боятся свободы, знают, что должны измениться, но не знают, как жить «после» изменения.
5. Несостоявшаяся революция как важный этап взросления
Даже если их бунт не выливается в действие, он важен. Это честная попытка «оттолкнуться от дна», почувствовать себя живыми, услышать собственный голос в шуме мира. Контркультура здесь – инструмент, не результат. Революция – процесс, не событие.
Заключение
«Нежные создания» – повесть о тех, кто ищет свободу, но находит только собственную ранимость. Это история о юности, которая хочет быть другой, но слишком хрупка, чтобы выдержать собственную инаковость. Рок-музыка, нонконформизм, контркультура – всё это становится для героев вдохновением, зеркалом, способом сказать миру: «мы есть иначе». Но внутренний рост требует не только протеста, но и решения.Их революция остаётся незавершённой – но именно в этом её смысл: подлинная свобода начинается вовсе не с победы, а с осознания своей несвободы.
НЕЖНЫЕ СОЗДАНИЯ
Часть первая. Великая революция.
1.
Идея написать об этом пришла в мою голову в тот момент, когда Ольга написала мне сообщение ВКонтакте. Мы долгое время не писали друг другу, а тут – взяла и написала. В последний раз мы пообщались в Доме Писателей на Звенигородской, как мне помнится. То ли была презентация журнала "Перрон", художественным редактором которого она была, то ли это было какое-то другое культурное мероприятие. Не важно. И вот, прошло несколько недель – и она написала. Написала про то, что ей приснился странный сон. Она была в этом сне инвалидом, она сидела в инвалидной коляске, и я эту коляску сзади подталкивал. Наш путь лежал по крышам петербуржских домов, сломанных улиц, проспектов и набережных – в мешанине и каше из них. И мы говорили о ангелах. Оля написала, что сон был такой реальный, и не выходит из её головы до сих пор. Я прямо-таки восхитился. Я написал ей, что это превосходная сюжетная картинка для будущего моего рассказа. Оля стала просить меня, никому не рассказывать про этот её сон и не пытаться что-либо написать на основе её сна. Я, конечно, обманул её. Пообещал, что никому не расскажу и ничего писать не стану. Но вот прошло двенадцать лет и я начинаю писать, вспоминая этот её странный сон. Он будет меня вдохновлять. Бывает так, что только одна картинка, один только кадр, даёт жизнь нескончаемому телевизионному сериалу. Может, и у меня так получится. Посмотрим.
2.
Да. Оля.
Если точнее – Ольга Вракина. Которая умеет врать и сочинять невероятно хорошие стихи, на мой взгляд и вкус. С этим дарованием судьба меня свела на литературном портале Проза.ру. Там она фигурировала и творила под несколькими псевдонимами на нескольких страницах (как, впрочем, и я сам). Она любила всякие игрища, метаморфозы, прятки, превращения, обольщения, кокетство, загадывать загадки и весьма пространно и непонятно выражаться (как, впрочем, и я сам). Мы были похожи друг на друга. Мы охотно и с удовольствием дурили друг друга, как мог в то время позволить нам интернет. Но пришло время нам встретиться вживую. И вот как это произошло:
Я отправил в редакцию журнала "Перрон" электронной почтой один свой рассказик. Его напечатали. А потом меня пригласили на презентацию номера. Вместо гонорара мне пообещали один экземпляр. Вот так мы встретились вживую. Я, конечно, очень заинтересовал Ольгу. Она вообще интересовалась каждым новым человеком, появившимся в её жизни. И пол этого человека не играл для Оли особенной роли. Она могла спать, как с мужчинами, так и с женщинами. И замуж выходить она не собиралась, она была существом с другой планеты, слишком ценила свою свободу и верила, что любовь никакого отношения к загсу не имеет. С Ольгой я, конечно, не спал. Она меня не возбуждала, не мой тип полового партнёра. Хороший друг, идеальный собеседник, но… в плане интима её не мыслил. Хотя, уверен, изрядно напившись, я бы, конечно, залез на неё, но утром, протрезвев, мы оба пожалели бы о содеянном.
У Ольги были длительные и мучительные отношения с Борисом. У Бориса фамилия была: Комсомолов. И должность была в журнале "Перрон": главный редактор. Он её ревновал и страдал, она с ним спала, и не только с ним. Ему хотелось более серьезных отношений, но она просила его её не торопить, дать время подумать, и всё такое.
Оля и Борис. Товарищи. Партнёры. Любовники. Но никак не муж и жена. Все это видели и понимали. Только один Борис не хотел видеть. Хотя прекрасно понимал.
Есть на свете такие люди, которые добровольно разрешают другим людям воткнуть нож прямо в сердце. И не просто воткнуть. Ещё и поворошить лезвием ножа внутри сердца. Борис – один из таких вот добровольцев.
3.
А теперь о журнале "Перрон".
Вы знаете, сколько в утробе литературного сочинительства копошится всяких мелких и незначительных творческих личностей – "непризнанных гениев", неудачников, никому неизвестных авторов, эпигонов, графоманов и просто бездарей? Огромное количество. Трудно представить. Рождаются по-настоящему лишь единицы. Эй, приятель, ты думаешь, что станешь вторым Стивеном Кингом и будешь получать гонорары, как у него? Забудь об этом, ты умрёшь в безвестности. Вот для таких, кто никогда не родится (для меня, то есть) и выпускался журнал "Перрон". Вот для таких и существовала возможность напечататься там.
Журнал сей задумывался для всяких неформатных, неформальных и нестандартных текстов. Оля и Борис были идеальной редакторской парой, удачно отыскивающие всяких чудиков, более или менее умевших складывать буквы в слова, а слова в предложения. Почти каждый человек сможет написать какой-нибудь текст, с ошибками разного рода, конечно, но только из под пера чудика такой текст вызовет реакцию, типа: "О! Необычно! Как оригинально! Класс!" или "В тему! Смотри-ка!". Журнал был спасательным кругом для авторов, тонущих в океане собственной бесперспективности.
Я любил "Перрон". До сих пор считаю, что это был один из лучших литературных журналов России. Конечно, журнал страдал всеми литературными и писательскими пороками. Не без этого. Например, Оля и Борис активно печатали в нём самих себя, даже если и материал их порой был никуда негодный. Могли так же напечатать откровенно бездарную писанину только по той причине, что её авторы были их хорошими знакомыми или друзьями. Лицеприятие тоже играло свою роль. У текстов, авторы которые лично не нравились Борису (не сами тексты, повторяю, а их авторы), не было ни единого шанса напечататься в "Перроне". Даже если эти тексты по своему уровню могли сравниться с текстами, например, Льва Толстого, Булгакова или Гоголя – для Бориса это был не аргумент. Со временем и я угодил в чёрный список главного редактора. Я регулярно печатался в "Перроне" почти два года, пока меня не поцеловала Ольга. А Борис стоял на другой стороне улицы и смотрел прямо на нас. Зачем она это сделала? Для чего? Может, хотела разозлить своего партнёра? Возможно. Но я пострадал. Больше меня в этом замечательном журнале не печатали.
4.
"Перрон" создавали этакий боевые товарищи по духу – начинающие герои-революционеры. На пятки наступал 1917 год, модно было ходить на демонстрации, выдумывать всякие лозунги, бросать бомбы и улептывать от полицейских. Что и говорить – человек будучи взрослым человеком способен вести себя как дитя неразумное. В новом журнале молодые революционеры намеревались печатать "свободные" литературные сочинения. Это были такие весёлые и хорошие товарищи: Ксения Луганская "Маруся", Виктор Остапенко "Режиссёр", Кузьма Прохорович "дядя Кузя" Рабинович и прочие любители искусства. "Свободными" литературными сочинениями они называли свои собственные опусы, которые принялись тотчас незамедлительно печатать в новом журнале. Никакой организации толком не было, это были посиделки с употреблением сигарет и алкоголя, поэтому товарищи из Дома Писателей на Звенигородской относились к "Перрону", как к некому акту самодеятельности и любительства. За три года выпустили всего два номера, и очень мизерными тиражами, которые разошлись по знакомым и друзьям. Одним словом – баловство. Потом пришли Оля и Борис. И всё изменилось. Номера стали выходить раз в три месяца, журнал перерос рамки простого увлечения в кругу дружной компашки. Журнал начал предпринимать попытки стать рупором творческой революции и литературного искусства. Читателя надо было разбудить. Читателя надо было воспитывать. Читателя надо было встряхнуть. Читателя надо было поставить к стенке и расстрелять новой литературой добротного качества. Читателя надо было вздернуть на фонарном столбе собственного обывательского безразличия. Мы стали мечтать о эшафотах, красных колпаках и о пулеметах "Максим".
5.
Оля написала, что в её сне мы беседовали о ангелах. Почему именно о ангелах?
Скорее всего, причина была в том, что незадолго до революции я, начитавшись "Мастера и Маргарита" Булгакова, начал писать повесть о самом себе, к которому в квартиру заявились двое ангелов, принявших человеческий облик. Они были моего возраста и очень хорошо меня понимали, разделяли мои убеждения и ненависть к обывателям потребительского века сего. Нет, это были не совсем падшие ангелы, как мне тогда представлялось, отнюдь. Это были ироничные и молодые по виду личности, которые жаждали "наказать" человеческое общество. Причины на то были самые разные, главная из которых – человеческое общество само провоцировало на такой шаг по отношению к нему.
Понятное дело, двое ангелов олицетворяли в себе Воланда и его компашку проказливых сотрудников. И почти точно таким же манером потешались и угарали над обывателями. Я почти ничего не делал, я лишь молчаливо взирал на всё происходящее и мысленно одобрял.
Спустя какое-то время подключились сотрудники правоохранительных органов. Деятельность ангелов привлекла их внимание и они решили "разъяснить ситуацию". Лучше бы они этого не делали. Кончилось это для них, конечно, плачевно. Ангелы их просто расстреляли. Мы дружно отправились в Петербург на импортной тачке, которую где-то угнали. Дальше писать я не стал. И причин не помню, почему не стал писать. То ли вдохновение пропало, то ли я сам по-настоящему тогда приехал в Петербург. Короче говоря, революция началась.
6.
Да. Революции началась. 1917 года.
Но моя революция началась ещё в Туркестане, сначала в Энске, а потом в Ташкенте. В Энске жили будущие революционеры: товарищ Карандашинский "Матня", товарищ Рустамов "Рустик", товарищ Гусев "Га-га" и я. Это был наш маленький революционный кружок. Мы увлекались литературой, рок-музыкой и бездельем. Самые настоящие революционеры. Мы выдумывали жандармов и общественную "систему", которой надо противостоять индивидуализмом, нонконформизмом и искусством. У нас были наганы из картона и хлебного мякиша. Как мы гордились ими!
Мы учились в одной школе, а потом в одном училище. Революционные идеи проникали в нас вперемежку с алкоголем и анашой. Нам казалось, что мир изменить легко, мы не обращали внимание на то, что на наших губах ещё не обсохло материнское молоко. Я хотел стать писателем, Рустик – художником, товарищ Матня – музыкантом, а Гусев не против был прожить до конца жизни бездельником. Энск (да и весь Туркестан) вызывал у нас отвращение, а его население мы вообще считали каким-то отдельным видом говорящих животных. И, конечно, мы не понимали, что сами-то ничем выдающимся не отличаемся от этих животных. Так. Просто хотели поиграть в революцию.
7.
Наш маленький революционный кружок ничего особенного такого в Энске не натворил. Всё ограничилось разговорами. Потом кружок стал распадаться: товарищ Гусев и Матня уехали из Туркестана, Рустик поступил на учёбу в какой-то колледж для художников в Ташкенте, я устроился работать на завод. И как-то стало грустно немного.
8.
Товарищ Гусев был интересной личностью. Его выдающейся способностью было умение прикольно смеяться: "га-га-гага". Он, восемнадцатилетний симпатичный парень, специализировался в области интимных связей с девушками старше его на пять-десять лет. Как правило, это были молодые преподавательницы в училище и скучающие жены, чьи мужья уехали на заработки. Я ему в этом плане очень сильно завидовал. Я в этом плане очень и очень сильно отставал от него. Дальше. Товарищ Гусев стал революционером, чтобы просто дружить с нами. С борьбой на идеалогическом фронте у него было совсем никак. В дебатах никакого участия он не принимал, его жизненная позиция в этом не нуждалась.
9.
Почти целый год я бездельничал под видом пролетария на заводе. Хотелось порой застрелиться. Но потом приехал неожиданно товарищ Матня и мы отправились в село Бульбарашино – создать там революционную ячейку.
10.
Так. Товарищ Матня представлял собой тип начинающего революционера с задатками стать со временем неплохим профессионалом и борцом за интересы эксплуатируемых слоёв общественных масс. Любил он музыку до безумия, пытался творить и создавать, но очень сильно подражал Юрию Шевчуку. Товарища Матню я считал своим близким и лучшим другом.
11.
Действующие лица:
Я;
Товарищ Карандашинский "Матня";
Товарищ Дядька – родной (со стороны отца) дядя товарища Матни, бывалый революционер, когда-то входил в "Народную волю";
Товарищ Алкашев – соратник товарища Дядьки по борьбе, постоянный участник митингов и демонстраций;
Бабка – родная бабушка товарища Матни, мама товарища Дядьки, слепая и добрая старушка.
(Бульбарашино. Послеобеденное время. Старый разваливающийся на куски дом. Внутренний двор, неприбранный и неухоженный. Товарищ Дядька сидит на бревне. Товарищ Алкашев сидит на перевёрнутом дном вверх ведре.)
Товарищ Дядька:
– Ты можешь уподобить нашу человеческую природу в отношении просвещённости и непросвещённости вот какому состоянию… Представь, что люди как бы находятся в подземном жилище наподобие пещеры, где во всю её длину тянется широкий просвет. С малых лет у них на ногах и на шее оковы, так что людям не двинуться с места, и видят они только то, что у них прямо перед глазами, ибо повернуть голову они не могут из-за этих оков. Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит далеко в вышине, а между огнём и узниками проходит верхняя дорога, ограждённая, представь, невысокой стеной вроде той ширмы, за которой фокусники помещают своих помощников, когда поверх ширмы показывают кукол.
Товарищ Алкашев:
– Это я себе представляю.
Товарищ Дядька:
– Так представь же себе и то, что за этой стеной другие люди несут различную утварь, держа её так, что она видна поверх стены; проносят они и статуи, и всяческие изображения живых существ, сделанные из камня и дерева. При этом, как водится, одни из несущих разговаривают, другие молчат.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.