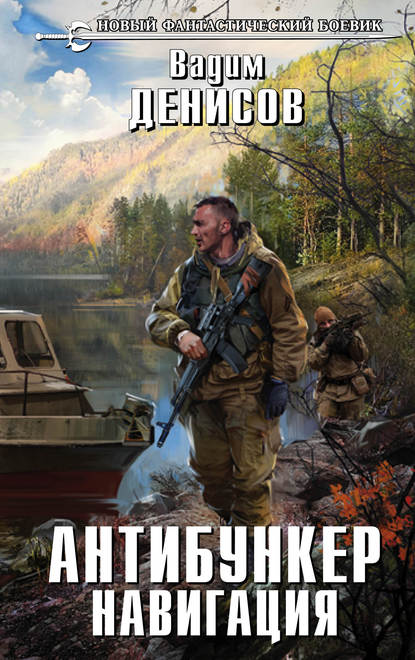Некоронованные

- -
- 100%
- +

© Д. Драгилёв, 2025,
© Н. Агапова, дизайн обложки, 2025,
© ООО «Новое литературное обозрение», 2025
* * *Как бы ни были причудливы наши пути, давай ориентироваться, как и прежде – по звездам.
Алексей ПарщиковВместо вступления
Якорные часы Хуучина Зальтая
В конце девяностых у меня возникла возможность делать на радио экспериментальные спектакли. Никогда еще в студиях мне еще не было так хорошо и свободно. Года два назад я смотрел фильм, который меня очень увлек, потому что аудиоряд не совпадал с видео. Это оказалось настолько заманчивым, что после просмотра я набросал 12 тезисов к новым экспериментальным радиопостановкам.
Андрей ТавровПОПЫТКА СТЕНДАПАПоразительная вещь – талмуд Грасса. Не знаете такой талмуд? Книжка гигантская, «Мой двадцатый век» называется. Точнее – мое столетие. И в ней иллюстрации к каждому году. Среди иллюстраций: ребенок во чреве матери изображен там, где тысяча девятьсот семьдесят первый обозначен. Год, красующийся у меня на почетном месте во всех анкетах, справках и проч. Чтобы сам не забыл. Китайцы тогда еще не водружали ни пандуса между миром капитала и коммунизма, ни знака условного равенства. Еще далеко было до распада большой родины. И до битвы за город, однажды названный в честь творца поклепа, разносного доклада о двух писателях. Далеко-далёко. Как от Москвы до корчмы на литовской границе. Или, допустим, от курляндско-лифляндской Риги до какой-нибудь Вороньей корчмы. Смотря в каких масштабах брать.
Двадцать лет спустя вошло в новый оборот словечко «немереный» – корявое, несуразное. Единожды заведясь, на свой страх и риск, до сей поры не исчезло… Но в семьдесят первом или, допустим, восемьдесят пятом риск и раз не знали множественного числа. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз. Мнилась сингулярность, ведь то, что происходит с тобой, не случается ни с кем больше. Семяизвержение, например, о котором никто не предупреждал, понятия не имел, неконтролируемая цепная – почему, откуль? Зато теперь время собирать чехлы и разбрасывать их по улицам, чтобы в разы сократить немереные риски. Барбариски. Ириски. Хотя реактор, кажется, давно зачехлен и полураспад состоялся. И выведен на чистую воду латышский судья чернобыльских экспериментаторов. Можно не печься об изотопах, о гексафторидах – урана, серы, неважно, о пористых перегородках – пресловутых диафрагмах, которые имеют достаточную проницаемость, чтобы через них прокачивать газовый поток в диффузионной установке. Игрушки сплошные, количество пор на единицу площади. Учились, как надевать. В каких случаях респиратор, когда – противогаз, подчас – чулок просто. Теперь, наверное, уже не только в Курляндии, куда плыло сонное полынное облако, но даже в зоне отчуждения можно заказывать березовый сок, через ржавый бор пробираться, травяной сбор заваривать, спор углублять между атлантами-абендландцами и гиперборейцами – суперборцами, сцу… гульдов зяблик, дразнить шведов, грозить им санкциями. За что? Да за все! За девку, которая, сачкуя от учителей, стала учить всех сама, моралистка, скачет по миру; за то, что другие страны им не указ, шведам этим, сами стадный иммунитет вырабатывают, за сокрытие воинственных курдов от Анкары. Ну и заодно припомнить, как в чичиковских владениях вместо хлебопашества рыбу ловили, приплюсовать нобелевские несоразмерности и неясность: отчего кострами взвиваются техобъекты критической инфраструктуры в непосредственной близости от бывших колониальных или собственных берегов? А бард Райнхардт Май тешит себя надеждой на стенах того времени. Какого времени какие стены? В диффузионной установке? Так в них же поры. Или старик Май имеет в виду легендарный исторический забор между двумя Германиями? Сказал бы мне лучше кто-нибудь, сколько пор в маске. Маска и есть чехол, а чехол полезная вещь. Зачехлили же однажды рейхстаг. И он сразу же в модный объект превратился, как будто перезагрузка произошла. Вот и мы все перезагрузимся, если наденем. Снова и снова. И мысль пойдет как по маслу, засияет всеми огнями, застрекочет, как часовой механизм.
МИМО КЛИМАТАТыквы светятся на Хеллоуин, лампионы – на День св. Мартина. Мартыновы ночи остались в осени. А нам выпал лишний февральский день, сэкономленный за четыре года. Но именно он оказался снежным.
«В зиму шагаем!» – подумал я и услышал:
– Все человечество сейчас топает в зиму.
– Опять мои мысли читаешь?! – воскликнул я в ответ на любимый голос. – Лишь бы не в ядерную. Хоть снеговика сможем вылепить.
– Забегаю вперед, – подмигнула подруга. – Главное, чтобы ваши тараканы уживались с нашими.
На тараканов можно было положиться, я это уже давно осознал. Наши общие и, наверное, вполне себе рыжие пруссаки талантливы, обладают подлинной интуицией, почти телепатическими способностями. Мы чувствовали себя кладоискателями, которым не нужно копать, корпеть. Без всякой карты выходить к Гете в Мальчезине, прямо к дому его, в перерыве между двумя локдаунами, или на Еврейскую площадь в старой Вене в преддверии первого карантина. Идем наугад, обнявшись, манкируя стрелками, выходим куда требовалось. Под веселый треп, но не сговариваясь друг с другом. Стрелка – царапина на чулочных изделиях. Проще сказать – на чехлах. Мелочь в Мировой паутине. Секундный хештег вместо минутной слабости. И, конечно же, встреча под какими-нибудь часами. Несомненно, на скамейках и тут что-то нацарапано. Только не так заметно. Здесь был Вася, у которого любовь с Клавой. А может быть, и какой-нибудь Клайд, у которого любовь с Бонни. Или Бони, у которого любовь со Стаси. Сильва, не сельва. Не стерва. Не потеряемся.
Мы любовались на «Якорные часы» – достопримечательность с марионетками. Не понимаю, не помню, почему просто якорные. Ведь спусковой механизм с крючковым якорем, так называемый анкерный ход, большинство традиционных маятниковых часов отличает. Особенно тех сердобских павлов буре с боем, что в XIX веке делали. Любой часовщик расскажет, мой дед подтвердил бы, он у меня часовым мастером был. Да и обычный рычажный спуск, он, по сути, тоже анкерный, как и анкерные вилка и колесо – те практически во всех механических часах едва ли не главная часть. Отнюдь не стрелки, циферблат, камни всякие там корундовые, безель-люнетта для вящей пущести. Но тут над нами красовалось устройство, которое правильнее было бы назвать «шпильур» – это если по существу. Изобрели немцы удобное слово, перещеголяли нас. Русские тоже горазды чем-то таким похвастать. Чтобы ладно и коротко. И все же куда нам до немцев, когда даже словосочетание «игровой хронометр» не применишь, нужно целую фразу сколачивать.
– Знаешь, кто придумал эти часы? – зачем-то решил пошутить я. – Яростный Хуучин Зальтай, мастер Нууц, маторско-камасинский или хамниганский Кулибин из Внутренней Монголии. Изобретатель нового календаря. Его очень почитают в Ухане.
Подруга улыбнулась:
– Думаешь, по новому календарю живем?
– Да похоже на то. Календарь, забитый множеством якорей, хищных зубчатых шестеренок, взял нас в оборот, как век-волкодав. Антиките́рский механизм. Знаешь такой? Однако у нового «отрывного» прикус неправильный, и привкус, и фокус. Который состоит в совмещенном вращении карусельных часов с фигурами-жакемарами, никогда не повторяющимися, или фигурами-двойниками, и разновидности Йоль-календаря, работающего по принципу киндер-сюрприза. Впрочем, принцип более хитрый. И устройство. Его только вычислить надо. Сам Зальтай, сдается мне, в Фучине знахарем промышляет. Банки народу ставит. С гексафторидом. В этом Фучине, кстати, прибрежная АЭС типа Фукусимы построена. Ведь часы пока идут, и маятник качается, и стрелочки бегут… Кажется, так пел некто Коралли, он же Кемпер, муж Шульженко, подражавший Бубе, как его, не Кикабидзе, а, да, куплетисту Касторскому…
Тут я осекся, испугавшись параду имен и фактов, которые кого угодно могли повергнуть в ужас. На Еврейской площади из-за угла выскочил вечерний бегун. И неожиданно со знанием дела стал наматывать петли вокруг памятника шестидесяти пяти тысячам жертв Шоа. По-волчьи дыша, быстрее секундной стрелки. Едва ли это могли быть ритуальные и сосредоточенные круги почета.
– Нью-йоркские башни рухнули в день рождения Феликса… – почему-то сказал я, думая одновременно и о волке, и о часах, и о любителе стенных нырков.
Подруга молчала.
– Что случилось?
– У каждого человека могут наступить моменты тоски, отчаяния и мрака, – отозвалась она нехотя минут десять спустя какой-то контрапунктной цитатой. – Но негде публиковать.
– Можно сливать, хоть бы и в море японское. А еще есть мордокнига – место сброса отработанных ступеней, – подвернулся выспренный комментарий.
– Не все способны сбросить… Скажи, каких чудовищ нужно пестовать в голове, чтобы ритуально топтать периметр возвышения, куда запрещено даже садиться?.. Вспоминаю деревню в Баден-Вюртемберге. Старуха-хозяйка восторженно и с придыханием говорила: вот здесь у нас висели флаги, а я сама была членом БДМ. Похоже на БДСМ, правда? А еще бабка на голубом глазу рассказывала, дескать, была у них во время войны одна работница с Украины. Спрашиваю, наивность изображая, как девушку в такую даль занесло. А нам, говорит, правительство выделило. Приехала фройляйн пошабашничать. Муж бабки рот ей затыкал, не пугайтесь, мол, что возьмешь с дуры старой. У него вообще лучшие импрессии, но другие. «За колючей проволокой нас хорошо кормили, хотя мы напали на СССР». Их маленький сын, родившийся в канун войны, слыша по радио дежурную фразу «Не забудьте заземлить антенну», думал, что просят похоронить какого-то Антона. Просят каждый божий вечер.
– Чего?
– Vergessen Sie nicht, die Antenne zu erden. Vergessen Sie nicht, den Anton zu beerdigen. Похоже звучит?
– Да.
– А тему чувствуешь?
– …Ничего удивительного. Детская детерминация. Грохот бомб еще не выветрился. Зато наши чувствуют себя сейчас в Берлине как в Перелешинском переулке Старгорода или на ресторанной горе Давида. Избачеством занимаются – несмотря на коронавирус. Окультуривают поверхность. Прикидываются истопниками, кочегарами. Подпольные вечеринки устраивают, параллели проводят. Дескать, новоявленные экологи решили сократить население. Докатились! От физики Краевича до физики Кикоина, это же вам не бомбы и не изотопы. Вирус, мол, тоже полезная вещь. Можно отпугивать комаров пресловутой тюрингской бациллой. Слышала про такую? Защищать растения естественным инсектицидом. Ассанжа на них нет, Сноудена. Памятник тому, кто разоблачит! Вот в России все иначе. Другие герои. Памятники О.И. Бендеру установлены в городах Чебоксары, Пятигорск, Кременчуг, Мелитополь, мемориальная доска в Одессе…
– Кременчуг, Мелитополь и Одесса – это Украина. Россия – памятник луноходу. Более или менее никчемному на сегодня. Ладно, сдались тебе всякие там… Расскажи лучше про своего дружка, поклонника Гарбарека. Классно ты его голос копируешь.
Вот так всегда. Теперь надо пахоту устроить в смартфоне, археологию. Чтобы вспомнить, как товарищ выглядит. Не саксофонист, дудец, как Тарыбарек, а клавишник. И голос восстановить. Ведь больше не созваниваемся. Уже давно не работали вместе, а с погружением в карантин все вообще пресеклось. Даже в парке, где когда-то импровизировали, даже в подберлинских усадьбах, где кабанчики бегали, потом нам их сервировали, а друг фыркал, дескать, вкушать такое нельзя. Никогда и ни при каких обстоятельствах. И вообще пора запретить любое мясо. Я делано зевнул.
ГОРИТ ГЕШТАЛЬТ– Ладно. Тогда про историю любви. Любви музыканта-философа к Берлину и к женщине. Точнее, историю одного эксперимента. Кто-то на нас опыты ставит, я в это, конечно, не верю, хотя Билл Гейтс за три месяца до Уханя дал аванс не Гарбареку, а Байонтеку. Ну а мой философ, чел-челюскин, с собственной подругой экспериментирует. Тоже от щедрот. Я поднапрягся и включил чужую манеру:
«Люблю женщин водить на экскурсии. Показывать красоты местные. Чем, скажем, интересна Ганзейская площадь? На самом деле – ничего ослепительного. Зато Нелли Закс провела в этой точке города много лет. До эмиграции к шведам. Еще здесь расположены Академия искусств и кварталы, застроенные, быть может, первыми в Западном Берлине бетонными коробками. Корабли? – звучит слишком романтично. Спичечные коробки? – наоборот, унижает. Серенькие, характерные, балкончатые. В столице ГДР тогда еще строили Сталин-аллею, чем-то похожую на Ленинский проспект в Москве. А блочные поставили на поток лет пять – десять спустя. Стандартные парковочные места, плоские крыши, иногда поросшие мхом, мелкими деревцами и прочей рудеральной флорой, типовые дворы, застекленные лоджии. Конечно, застеклены они не так, как у нас застекляют. И хранится на них скорее ненужная утварь, чем заготовки, которыми всегда славились советские домохозяйки. Стекло, бетон. Нынче стекло – основной надувной материал. Кто придумал из стекла строить? Не Вера ли Павловна?.. Вот так примерно я повествую. Женщины всегда слушают внимательно, но без особой охоты. И не запоминают ничего. Была и она в их числе. Привез ее, значит, в Дойчланд, в Берлин. Повел привычным маршрутом. Помог с годовой визой. С того момента посещала она мою берлогу частенько. На Писториусштрассе. Однажды долгий перерыв был. И показалось мне, что я способен жить без нее. Наверное, не люблю больше. Хотя, может, просто проверить хотел. Ее и свои чувства. Сам не знаю. Но, так или иначе, рассказал ей об этом. Расстались спокойно. Ни слез, ни упреков. No pains, no sorrows, no sighs. И вспомнил я слова соседа-немца, облизывавшегося вослед, ему бы, мол, такую красотку. Говорю соседу: а ты пиши ей. Тот принял к сведению и давай упорно емели строчить. Моя поначалу не велась. Но время спустя клюнула. Теперь вместе они, ребенка завели. Я к нему с просьбой: верни, мол, гад, деньги, которые я ей на открытие визы дал. Точнее, даже не я, а мать в Москве для нас постаралась. Так чувак возмутился. Аршлох, говорит, аршлох…»[1]
– Да, грустно, – вздохнула подруга с чересчур серьезной гримасой. – И странно. Зачем на эксперимент пошел? Естествоиспытатель. Филантроп. Прав великий доктор Пауст: человек сам виноват в своем одиночестве. Эх, в груди моей тоска, Как бранящаяся скатерть, Хватит мозг мне полоскать и Слушать бабушкины ска… И что теперь? В самом деле живет один?
– Ого, – от неожиданности присвистнул я, – да ты, как погляжу, прониклась. А он теперь жалуется на испуганные глаза. Над масками. Недотепистое здешничанье во городе Берлине.
– Как-как?
– Недотепистое здешничанье! Тест сдал, а ответили через месяц. Деревню под Вяткой, где его родня живет, куда не то что поезд, автобус не ходит, уже всю привили, а тут жди у моря погоды. Рестораны закрыты, углы темные, идти неприятно. После девяти все по домам, район вымирает. А недавно ботинки заметил на дубе перед подъездом, шнурками связанные. Говорит, дилеры. Пара ботинок – стало быть, точка у них. Хотя раньше был спокойный район, ничего такого. По виду ботинок понятно, чем торгуют. Нужно смысл синих кроссовок знать, допустим. Или черных кед. Встречаются чуваки, как волки, под деревом. Ясное дело, в масках, удобно всем. Коротко беседуют о чем-то, курят – и след простыл. А для приятеля дуб – место силы, почти сакральное значение имеет. И вообще незакрытый гештальт. С детством связан. Как там пела Белла Левикова? Горит гештальт, огнем охваченный…
– Впиши его в судовую роль.
– Куда и кого? Дилера? Или клиента?
– Хи, хи. Гештальт!.. Коллегу, конечно. В состав экипажа. Грудь у него не горой, лоб у него не увенчан. Если выразиться словами поэта Уткина. Некоронованный. Будет членом команды. Снимемся с якоря крепким сырым утречком у пирса ближайшего водоема. – Подруга потерла руки и слегка поежилась, повела плечами. – Как он там зовется, ваш биотоп? Кройцпфуль, Феннпфуль?
– Goldfischteich. Пруд золотых рыбок. На полном серьезе. Однако, сударыня, куда ж нам плыть? В царство Московское? Да, самолетами теперь не доберешься и даже автобусами трудно… И главное – надо ли?
– Махнем в лужицкие леса. Кто, говоришь, там раньше жил, гавеляне? Славяне полабские? Хотя нет, лучше в те края, где дигитализации побольше, писем поменьше, звонков, оружия совсем нет, ни горячего, ни холодного, интернет бесплатный и бесперебойный, в обеззараженные села, в тайгу, в тундру. Предположим, норвежскую. В Лапландию. Или в Антарктиду. Или в район Земли Санникова. Где снеговиков лепят и продают по сходной цене.
– Прекрасно, – изобразил воодушевление я, – будем танцевать со снеговиками жигу.
– Могу ли я считать твои слова приглашением к танцу? – спросила подруга с напускной вычурностью.
– Тебе же мало моего общества, – пришлось возразить мне. – Впрочем, коль скоро ты собираешься взять некоронованного в плавание, тебе потребуется от него если не паспорт, липовый адельсбриф – дворянская грамота или какой-нибудь забубенный прививочный сертификат, то по крайней мере досье. А в таком деле я могу быть полезен. Ибо нахожусь почти в привилегированном положении – в роли человека, знающего многое о приятеле и его прошлом. Включая доберлинское – и доблестное, и темное. О календарных датах. Красных и не очень… Древние матросы – бывалые доископаемые колобки – вычислили одну важную вещь. Бригантина поднимает паруса… правильно, когда все счета оплачены, все ходы записаны. Просчитаны, прочитаны. Не всякий корабль рифмуется с немецким словом irreparabel[2], с шеренгой собственных грабель, а с псевдоордынским обозначением мужского полового органа и подавно. Так что это – приглашение к тексту.
Часть первая
Лесами гавелян
QUERCUS
Когда порой зеленою влюбленный был в Алену я…
Андрей МЗА ТОГО ПАРНЯИз всего движимого и недвижимого имущества, построек и насаждений уцелел только дуб, когда-то глядевшийся в окна кухни. Игорь провел ладонью по коре дерева. Припомнил заглавие книги, однажды читанной: «Куда идет тополь в мае?» «Куда же из далеких лет шагает дуб?» – парафраз напрашивался сам собой. Нет, дуб никуда не ушел, он очутился у тротуара. Новая мостовая легла вполне аккуратно, причем именно там, где раньше на условном меридиане мерцали их двухэтажки. В дальнем городском углу, на некой биссектрисе, казалось, друг против друга. Да и движимое не исчезло совсем, раз чужие машины оприходовали маршрут. Однако с плоскости стряхнули дома. Светлый особнячок, обращенный во двор фасадом, построенный, должно быть, в канун какой-то очередной по счету войны. Зимней, советско-финляндской. Обросший потертостями и подпалинами, краска слезла с него, цвета неопределенного, попробуй отличи – беж или крем, кофе с молоком или красноватый загар. Усадьбой тоже трудно назвать, хотя внешне чувствовалась некоторая претензия на усадьбу. Никаких премудростей, но и не без легкого намека и даже апломба. В просторном подъезде – каменная лестница, надменная, вьющаяся, нет, льющаяся по овальному контуру, в стене – ниша полукругом, для возможной скульптуры. А за квартирной дверью – коммуналка, что отапливалась дровами, четыре печки под потолок, покрытые белым и черным кафелем. Здесь на втором этаже Игорь жил с родителями. Точнее – родители с ним. Еще тридцатью зимами раньше, в доме, по слухам, обитали местные немцы…
Игорь слишком эмоционально, обстоятельно и часто пересказывал дорогие и единственно ему известные подробности, агиографически растягивая мелочи и смакуя образы. В итоге я, жалкий рисовальщик и реконструктор, чувствую себя теперь в положении самозванца. Будто покрал у него все. От заброшенных коллекционных дозорных, застывших на подставочках по одному, в боевых позах, каждый своей, до надежно закопанных фантиков. Спер всю оголтелую идентичность приятеля. Вдобавок мне уже кажется, что лицезреть «фамильное имение» – артефактом, возникшим и топорщащимся из глубин, случалось не раз. Только с легендарными немцами кочевыми ни он, ни я не пересекались. Мой друг Игорь Панталыкин – музыкант, причем хороший, хоть и знаменит не слишком. Вывод подсказан жизнью, напрашивается сам собой: история может быть интересной. Ведь кто-то по-прежнему держит в руках детскую погремушку в виде шарика голубого, и эта улица обвивается шарфом вокруг бывшего дома, даром, что ли, Крендельная, и девушка по ней спешит.
Семья Лики гнездилась на первом. В ржаво-бурой и длинной дощатой «шкатулке» – второй обитательнице местной диагонали: незримой, протянувшейся между соседями. Одновременно – плотной ткани и прямой линии. В хижине продолговатой, выцветшей, «продрись» на ставнях – там рыжая, здесь почти алая. С изнанки – едва ли не по-одесски – подобие лоджий, веранд, галерей. Но зданьице, прямо скажем, так себе. Нечто среднее между теремом и бараком. Почти курятник. Зато Лика ни с кем не делила жилплощадь. Кроме отца и матери, разумеется.
Расстояния, которыми пропитано детство, преодолеваются труднее и дольше, чем в возрасте, сильно отдалившемся от агушных погудок и общих – трикотажа в рубчик, тетрадок с сочинениями или прописями. Это если мы берем в расчет дистанции, а не сны. Даже когда мелюзга, улюлюкая, носится наперегонки, время медлит, и булыжник переулка, разделяющего приусадебные хозяйства, становится родственником самой неповоротливой черепахи: панцири намертво вбиты в землю.
Игорь чувствовал, что дом девочки хоть и рядом, соседство все-таки относительное. Ведь настоящих соседей каждый день ты на кухне видишь. Рубежи дворов подразумевали изгородь. За заборами теснились сараи, гаражи, кроличьи батареи, веревки для сушки белья. Все, что полагалось слободским статусом, навыками предместья. Родительский двор служил и заурядной подсобной территорией, и участком садово-огородным, лучше сказать – участками, по числу жильцов. Как ажурные узоры, сети, чехлы, встречавшиеся в иных местах, так штакетник вперемежку с рабицей позволяли запросто наблюдать, что делается внутри. При этом еще легче преодолевать любой бредень. Случай Ликиного двора принадлежал к исключениям. Незамысловатые злато и барахло, будничное копошение в обертках быта защищал едва ли не частокол от посторонних глаз. Глухой и вполне высокий. А крылечко пряталось далеко за углом, на боковой улице. Идти минут пять, причем вдоль целой вереницы окон: гостя можно заприметить заранее и шепнуть по цепочке.
Теперь здесь снесли сразу несколько зданий и течение улиц стало другим. Появилась новая проезжая часть, обнажив логику чертежа, о котором раньше трудно было подозревать. «Ось» между «родовыми гнездами», едва заметная прежде, стала совершенно очевидной. Нелепость и в то же время естественность случившегося поражала: будто и не воздвигались никогда эти дома и сараи, и следов не осталось, и вообще ничего иного не было в окрестностях, а вот негаданная дорога присутствовала во все времена. Хоть басни рассказывай и «баки заливай» с отсылками к вымышленному городскому плану и деталям ландшафтной архитектуры. Путепровод как тропа к водопою – вода и в самом деле была неподалеку, речка – прямо по курсу.
«Вот она, подлинная жизнь, настоящая, голая – полная превращений и переходов, сплошной трансфер», – подумал Игорь. В мозгу шевелились архетипы. Все мы знаем, как горел камин, «огнем охваченный», предоставив возможность стойкому и оловянному породниться наконец с картонной плясуньей. А сокровище, постоянно удиравшее от «мародеров» в обивке стула, предстало публике свежевыстроенным ДК. Странным образом здесь произошло нечто подобное. Ведь проекцию первой и, наверное, самой заветной мечты Игоря, связанной с его малой родиной, собственным биотопом, можно было теперь и увидеть, и даже дотронуться до нее. Всерьез осязать. Если не лапами или губами (зачем?), то хотя бы каблуками, микропоркой, подошвами обуви. То, что угадывалось в дружбе двух детей, нашло свое воплощение в отрезке новой улицы: она как бы соскальзывала с места ее жилища, пронизывая его двор. Идеально встроившись в пятачок, где этот двор был однажды. Или наоборот. Смотря откуда вести вектор. Соединение произошло, случилось самым неожиданным и надежным образом. Его нарисовали на ватмане, оформили дигитально и, наконец, закатали в асфальт, сдали в тираж, вернув компьютеру и бумаге в виде новой карты города. Оставим на совести проектировщиков-урбанистов, авторов очередного плана реконструкции и развития.
Но кем была Л. для И.? Вводились ли данные инициалы в математические звенья и перочинные формулы парковых лавок? И кем она являлась вообще, та светло-русая, хрупкая (самая маленькая в классе), воздушная, тонкая, невесомая, как перо. «Прыжки в мелодии определяют красоту мотива», – сказал один почитаемый Игорем пианист. Конкурент. Казалось, если Л. прыгнет с зонтиком, то зонт не выгнется вверх, а подхватит и понесет над сарайными крышами. С подружками раз от раза совершала рейды по соседским плоскостям и угодьям. Сухой язык детского протокола. В его дворе было чем поживиться: помимо дуба (кому нужны восточноевропейские желуди, не муку же из них делать), алыча, яблоки двух сортов – антоновка и симиренка, красная смородина, крыжовник. На грядках – помидоры, клубника. За грядками – курятник подлинный, единственный на всю округу. Правда, ни цыплят, ни подножный корм, являвший собой непосредственные плоды человеческих рук, никто из «чужих» не трогал.