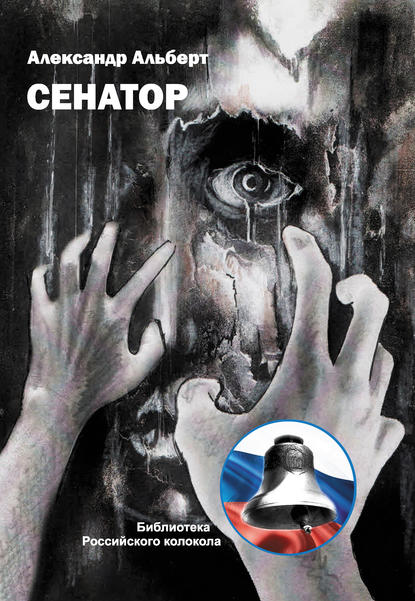Жертва короля

- -
- 100%
- +

© Дрюпина А.В., 2024
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
* * *
Пролог
Пол был пыльный, усыпанный сухой листвой и мелкими красными ягодами. С первого дня осени наступала пора ветров – служащие храма не подметали полов и не гасили свечей, оставляя им право решать, что нанести в открытую с четырёх сторон галерею и когда забрать огонь, принесённый человеческими руками.
Осень считали лучшим временем для клятв – ходило поверье, что неугодные узлы ветер разорвёт в ту же секунду, как затянутся нити. Погасит свечу в руках принимающего, бросит в лицо дающему горсть песка, и тот закашляется на середине фразы.
Сегодня ветер не поднимался с самого утра. С того мгновения, когда Адлар поклонился бывшему наставнику, принёсшему весть о том, что Совет принял решение, кого преподнести Его Величеству в качестве Дара, а порыв ветра принёс запах жжёной травы.
– На колени, – велел Адлар, не повышая голоса, и через мгновение светлые одежды зашелестели по каменному полу. – Подними взгляд.
Дар помедлил, а после вскинул голову рывком. Дрогнули тонкие губы, словно желая сложиться в ухмылку, но не решаясь. Он был худым, с каштановыми кудрями до плеч. Белое ему не шло, как не шло и выпавшее предназначение. Такие не ложатся на ритуальные знаки, начерченные на земле призрачным золотом, такие плюют на землю, которую им велено защищать, и грызут руки тех, кто попытается удержать. Адлар помолчал, разглядывая незнакомое лицо. Веснушки. Тонкие, почти девичьи брови. Шрам над левым глазом, ровная линия с полпальца. Глаза человека, готового заменить слова клятвы на «ага, уже бегу». Что-то, вероятно, отразилось на лице Адлара, потому что Дар вдруг улыбнулся – некрасиво, одной стороной лица.
– Не нравлюсь?
Адлар вежливо приподнял брови:
– Дающим клятву не положено произносить иных слов, кроме обращённых к Ташш.
– Берущим тоже не положено трепать языком почём зря. И пялиться, как остолоп, не положено. – Он тряхнул головой и весело сощурился: – Не девку в весёлом доме выбираешь.
Взлетела рука в чёрной перчатке – он терпелив, но не идиот, поэтому задержал её в воздухе, и снизу тут же донеслось ехидное:
– Правильно. Не твоё пока.
Адлар опустил руку. Медленно растянул губы в улыбке – той самой, от которой у всех, кроме дурной Радки, жизнь слетала с лица.
– Я твой король, – уронил мягче некуда. – Здесь всё моё.
Дар вздрогнул, словно пощёчина всё-таки досталась ему. Вспыхнуло плохим огоньком упрямство в тёмных глазах – и разгорелось в секунду, заполыхало, когда Адлар выпростал руку и размотал кожаную чёрную ленту, обхватывающую его запястье. Медленно, оборот за оборотом. Запястье обожгло холодом – он не снимал ленту десять лет, и кожа словно забыла, что такое осенний воздух. Адлар сжал конец ленты в ладони, поднял взгляд на Ташш, застывшую посреди галереи, строгую, чернокаменную, смотрящую вперёд. Никто не мог встретиться с ней взглядом – никто не имел права. Скульпторы доносили это очень ясно, из статуи в статую. Ташш держала в вытянутых руках такую же ленту – тонкая полоска белого камня. Ночью он светился, напоённый солнечным светом, так, что слепило глаза.
– Ты, пришедший в храм Ташш добровольно, – не отводя глаз от изваяния, произнёс Адлар, – произнеси свою клятву.
Повисла тишина – и на миг Адлару показалось, что Дар не проронит ни слова. Или засмеётся, или плюнет ему в лицо, и тогда Адлар будет вынужден достать из ножен кинжал и сделать так, чтобы не принёсший клятву никогда не смог произнести никаких других слов.
Но Дар сказал:
– Я тут так же добровольно, как ты, король. Да позволит мне Ташш принять твой дар и служить тебе, пока душа моя не будет отдана до конца.
Ветер взметнул полы его одежд, закрутил листья и ягоды в шальном вихре. Адлар поймал взгляд Дара – уже не Дара, а сосуда, жертвы, его части. Тот смотрел спокойно и ясно, и больше всего на свете Адлару захотелось отшатнуться. Ноги предали его, он покачнулся – и в следующую секунду запястье, недавно стиснутое лентой, обхватили тёплые пальцы.
– Какой ты, оказывается, трепетный, Величество, – в тихом смешке сквозило ехидство. – Ленту-то свою клятую отдашь или на ветер пустишь? Смотри, я своё сказал, ты не скажешь – сам перед Ташш отвечать будешь.
Дрожащими пальцами Адлар повязал ленту. Руки у Дарованного оказались тоже в веснушках. Ветер улёгся.
В храме пахло пожаром.
Дарованный потянул носом, поморщился:
– В деревне траву жгут.
Адлар медленно покачал головой вместо того, чтобы напомнить о молчании, которое теперь обязан хранить Дарованный.
Эти травы ещё не сгорели. Их время только наступало, подкрадывалось, как играющее в прятки дитя подбирается к тому, кто притаился под кроватью.
Полгода. Не меньше, чем полгода оставалось до того момента, когда земля потребует своё. Потребует и получит.

Начало
1
Адлар
Радка входила без стука. Всегда, с самого первого дня здесь, когда в покои юного принца явился курносый мальчишка-слуга, выпалил дурацкое «здрасьте» и немедленно уронил таз с водой. А после ойкнул и засмеялся. Тёплая вода текла по каменному полу, впитывалась в густой ворс ковра, красивого, «апельсин и корица», оранжевого со всполохами коричневого, таз мелко дребезжал, никак не желая угомониться. Адо смотрел на это всё и пытался оценить, что ему полагалось предпринять в такой ситуации – просто доложить главному над слугами или сразу подписать приказ о казни?
В свои десять он уже отлично знал, что неизвестный слуга меньше чем за минуту заслужил плаху и вялое «именем короля вы приговорены к», которое палач читал, давя зевки: казнили на рассвете. Для казни вообще-то хватило бы и этого «здрасьте».
Но ещё Адо помнил каждую из сорока девяти казней, которые видел, и поэтому шагнул прямо в лужу, противно хлюпнувшую под домашней обувью, влепил мальчишке затрещину и прошипел:
– Ты слабоумный?
Слуга часто заморгал и разрыдался. Стоял, размазывал слёзы по щекам. Лужа остывала, за дверьми покоев слышались неуверенные шаги: видно, стража задавалась вопросом, что же тут, во имя Ташш, происходит. Адо шагнул ещё ближе, сцапал идиота-слугу за рукав, вдёрнул в покои и пригрозил, что заткнёт ему рот кляпом, если тот сам не заткнётся наконец. Потом поднял таз, поставил на стол у огня, скинул в таз промокшие туфли и, подняв голову к алтарю Ташш, устроенному над камином, сказал: «Так надо». Прислушался к шёпоту ветра за окном, к треску пламени, к ощущениям в запястье, обмотанном чёрной лентой. Присмотрелся к миниатюрной статуе из чёрного камня. Ташш молчала, пронзая покои суровым взором. Адо кивнул и отошёл, чувствуя, как по спине пробегает дрожь.
– …Эй, Величество. Ты там ещё живой? – Весёлый голос Радки вернул Адлара в настоящее, и он нехотя повернул голову, мазнув затылком по тёплому краю ванны.
Радка сидела на его кровати и водила щёткой по подолу мантии – после целого дня езды из чёрной она стала цвета всех земель королевства. Щётка гуляла по ткани вверх-вниз, неторопливо, с тихим шелестом. Адлар остановился взглядом на смуглой коленке, торчащей из-под мантии. Радка заметила, подтянула мантию повыше.
– Неприлично, – укорил Адлар. – Попытка соблазнения короля тянет на казнь.
– Это уже на которую?
– Двести сорок третью.
– Всего-то! – отмахнулась Радка. – Я начну переживать, когда мы дойдём до тысячи.
– Могу добавлять по одной за каждую твою фразу.
– Это потому, что я не начинаю с «Ваше Величество» и не падаю тебе в ноги?
Адлар улыбнулся и прикрыл глаза. Вода приятно грела и пахла дикими травами – не привычными вроде осенней мяты и лекарственных ромашек, которым полагалось успокаивать сердце, заострять разум и даровать силы, молодость и ещё множество преимуществ, а теми, которые приносила Радка, когда отлучалась домой, в свою деревню в горах. Аромат у них был совсем другой. Едва уловимый, зыбкий, горьковато-тёплый. Радка говорила, так пахнет солнце.
Крупная капля упала ему на нос, и Адлар открыл глаза. Радка сидела на краю ванны, водила по воде тонкими пальцами. Светлые волосы были по-прежнему стянуты на затылке в тугой узел, который легко прикрыть головным убором. Белая рубаха, закатанные по локоть рукава, ремень, вдетый в слишком большие для Радки штаны.
Адлар перехватил её ладонь, переплёл пальцы.
– Не боишься, что твоя богиня смотрит, король?
– Если снова предложишь чем-то её завесить…
– Будет двести сорок четыре?
– Вода ещё тёплая, – заметил он и добавил тише: – Хочу, чтобы ты присоединилась.
Радка освободила руку.
– Как пожелает мой король. Но если ты расплескаешь воду, как в тот раз, вытирать будешь сам.
– Не боишься перейти границу? – Адлар снова упёрся затылком в борт ванны.
Ему нравилось, как Радка раздевается – неторопливо, наслаждаясь каждой секундой свободы от игры в парнишку-слугу. Рубаха упала на пол, следом – обмотанное вокруг груди тряпьё. Звякнула пряжка ремня. Покачнулось в камине пламя, затрещало, плеснуло тёплый свет на гладкую кожу. Радка дёрнула с волос тугую резинку, рассыпав пшеничные до плеч пряди. Она и мальчишкой иногда носила их распущенными, растрепав до невозможности, и становилась похожа на безумного пастушонка.
Подошла – медленно, ещё отлично изображая наивную покорность, опустилась мягким бедром на край ванны, склонила голову.
– Я перехожу границу, Адо?
– Каждый день.
– Как грубо с моей стороны. Накажешь меня?
Он протянул руку, коснулся мокрыми пальцами тонкой шеи, невесомо скользнул вниз.
– Сначала мне придётся тебя наградить. Ванну вряд ли можно счесть наказанием.
– Если бы тебе приходилось таскать по десять вёдер воды, чтобы кое-кто венценосный погрел в этой воде свою задницу…
– Двести сорок пять.
– …ты бы тоже считал это наказанием, но ходят слухи, что корона даётся в обмен на совесть, поэтому я не жду, что ты впечатлишься. Двести сорок шесть?
Адлар приподнялся, запустил руку в растрёпанные светлые волосы, заставил Радку наклониться ещё ниже, почти роняя в воду, выдохнул, глядя в насмешливые глаза:
– Тебе тысячи казней мало.
Когда луна вышла на середину неба, Радка наконец закончила расчёсывать волосы и отложила гребень из чёрного дерева, с витыми узорами по рукояти. Адлар услышал тихий стук, повернул голову. После получаса разглядывания пляшущего в каменной нише пламени перед глазами плавали тёмные пятна.
– Выглядишь усталым, – заметила Радка. Она больше не заигрывала, не насмехалась. Сидела, закутавшись в свисающее с кресла одеяло и подтянув ноги к груди. – Как прошёл этот ваш ритуал? Твой новый друг в восторге от перспективы умереть рядом со своим королём?
– Сосудам не положено быть от чего-либо в восторге.
– Имени у твоего «сосуда» тоже нет?
– Я не спросил.
Повисла тишина, сочащаяся невысказанным, и на лицо скользнула неприятная усмешка.
– Хочешь что-то сказать – скажи, Рада. Я тебя за это не убиваю, могла уже убедиться.
Рада отвернулась, дёрнула голым плечом. Скинула одеяло, неспешно подошла к вороху одежды на кровати, вытащила за рукав свою рубаху, натянула. Замотала волосы в небрежный пучок, замерла, спросила, не оглядываясь:
– Ты правда ощущаешь его теперь как самого себя?
– Нет.
– Я слышала, это происходит постепенно.
– Ты удивительного много всего слышишь.
– Я слышала ещё кое-что. – Радка повернулась рывком, затянула тугой ремень, и только теперь Адлар понял – злится она по-настоящему. – Что эти ваши «сосуды» тоже начинают чувствовать вас, как самих себя. Видеть ваши сны, мысли ваши слышать. Поэтому им запрещено разговаривать после принесения клятвы. Чтобы бедняжки не рассказали всему свету, что господа маги – те ещё засранцы.
Адлар тихо и медленно выдохнул. Пальцы стиснули подлокотники кресла.
– Рада…
– Уже ухожу, Величество.
Она подобрала туфли, но обувать не стала, понесла прямо так, в руке. Захотелось остановить и приказать одеться нормально – в конце концов, она из королевских покоев выходит, а не абы откуда. Радка угадала его мысли – обернулась от двери, сощурилась:
– Удивительно, чего это ты так из-за него разволновался. Ты становишься кретином, только когда тебя что-то цепляет. Что в нём такого, в этом твоём дружке, что ты ворчишь, как моя столетняя бабка?
– Покиньте мои покои, Радон, – приказал Адлар, остудив голос до того, каким разговаривал на скучных церемониях.
Радка выпрямила спину, поклонилась и вышла, не проронив больше ни слова.
2
Тиль
Когда Тиль был ещё маленький, одноглазая бабка Моривиль говорила: «В день дурной рождён, так и жить будет дурно». Бабка-то была та ещё балаболка, да и присказку свою вспоминала, когда Тиль ей ведро на ногу уронит или туфли её стащит и курам подложит, но, если уж честно – в ту ночь, когда Тиль родился, по деревне такой мор прошёл, что наутро ни кур, ни коров не осталось. Все лежали мёртвые, ни ножом не тронутые, ни чем ещё. Потом-то известно стало, что в соседней деревне на лихого была охота: маги приезжали сцапать да казнить, а тот удрал и таился в погребе у старого Финна, который не совался туда и знать не знал. Кончилось-то всё как водится: поймали, уволокли и кости огню предали, как с лихими и положено. А только Тиль столько сказок про себя наслушался – ну хоть книжку пиши да картинки рисуй.
Одни говорили – мать его родила мёртвого, а потом поворожила, и жизнь-то в него потекла со всей округи. Другие твердили – живым родился, нормальным, только не от папки своего, а от мага какого странствующего, с кровью их лютой, то бишь и не к сиське первым делом приложился, а ко всему кругом, что дышит.
У Тиля любимая сказка другая была – что он так же вот от мага нагулян, а кругом всё мрет, если Тилю не дать, что он хочет. Расстроишь дитя – и прощай полдеревни. Тиль, когда узнал, не смог не поглумиться: вот соседка на него раз накричала, так он ночью полкурятника у неё вынес, да так чисто, словно Ташш сама прибрала. Соседка в холод, а Тиль у забора её прогуливается туда-сюда, насвистывает. Соседка в плач, ему в ноги, «прости, прости дуру!». Простил он её тогда за десять банок повидла и мешочек сахара – тяжёлый, в кулак не помещался.
Ему эта сказка потом ещё много добра принесла – и проблем, когда мамка узнала.
А все же Моривиль, собака старая, не соврала – жил Тиль и вправду как-то дурно.
И недолго ему, видать, оставалось.
Тиль постучал костяшками по мутному стеклу. Пробежался пальцами по стыку стекла и камня – сидело как влитое, ни рамы, ни ручки, чтоб потянуть и впустить в эту клятую клетушку глоток воздуха. Снаружи-то недурно сейчас – стыло поутру, зимние ветра с осенними миловались, и пахло то листьями прелыми, то снегом, ещё не выпавшим.
Только ему, Тилю, может, до снега и не дожить.
Рука дрогнула. Ладонь сложилась в кулак, стукнула толстое стекло. Тиль отвернулся, задёрнул тяжёлые шторы. Отступил на шаг, оглядел их хорошенько – ну вы посмотрите, метров пять на эту красотень угрохали. Да это тряпьё продать – год жить припеваючи можно. И вышивка золотыми нитями, ну конечно. Тиль тряхнул головой, откидывая растрёпанные кудри с лица, протянул руку, дёрнул ненавистную штору. Та не поддалась. Дёрнул снова, почти повис на ней. Изогнул уголок рта, услышав треск.
Величество о своих прислужниках-однодневках, видать, заботился. Покои ему выдал вон какие – шторы, столик с ножками, как у паука-сенокосца, кровать такая, что с пятью девками там улечься можно. Полки вон от книжек ломятся – да Тиль столько книг за всю жизнь в руках не держал, сколько тут их натащили, а он не в земле свои шестнадцать лет копался – у книжного мастера работал, эти самые книжки переписывал.
После того как шторы упали на пол грудой тряпья, Тиль взялся за кровать. Стянул здоровенное одеяло и кинул к шторам, нашёл в столе чернила, щедро плеснул сверху. Выскреб из чернильницы остатки прямо пальцем, нарисовал на стене птичку, задницу и лошадь – на этом таланты кончились. Сдёрнул простыни, подрал на лоскуты и сложил в углу комнаты аккуратной кучкой. Голыми руками разодрал подушку и швырнул в воздух – пух закружил по комнате, словно тёплый колдовской снег.
Выпрямился, уперев руки в бока, сдул с лица несколько упавших пушинок, почесал нос. Неторопливо подошёл к полкам, снял первую попавшуюся книгу. «Семьсот двадцать восемь дней великого путешественника и первооткрывателя Бетруччи Безымянного». Хмыкнул недоверчиво, полистал. Ну точно же не оригинал. Вон и рисунки косые – копировал какой-то пьянчуга после кутежа, не иначе. Не выдержал, на мгновение прижался носом к страницам.
Книжка пахла пылью и старыми чернилами, и совсем немного – маслом. Тиль провёл пальцем по странице, потёр один о другой. И правда, масло.
– Господин, прошу прощ… Твою козу через забор!
Тиль вздрогнул, оглянулся, так и продолжая задумчиво растирать масло между пальцев. На пороге покоев, прижав к груди полный воды таз, стояла упитанная тётка с торчащими из-под дурацкого чепца кудряшками и очумело вертела головой. Таз опасно покачивался. Тётка вытаращилась на кровать, охнула, заметила посиневшие шторы, всхлипнула, нашарила взглядом рисунки на стене – и пошатнулась.
– Ой, маменька моя покойная, – прошептала, а таз накренился и выплеснул щедрую порцию воды ей на подол. – Это же как так можно-то, господин! Ой, что теперь будет…
– Что? – поинтересовался Тиль, возвращая книгу на полку.
– Ой, что!
Таз ударился об пол, задребезжал. Тётка так и стояла вся мокрая и влажными глазами глядела на Тиля. Вдруг глаза расширились, и тётка захлопнула рот сразу двумя ладонями – для надежности. Вспомнила, видно, к кому явилась и чего ей может стоить говорливость.
– Ну какое «ой». – Ему вдруг сделалось неловко: вот мамка на Тиля так же глядела, когда его стража уводила. А он ей всё – «обойдётся», «обойдётся». Тиль передёрнул плечами, уселся прямо на стол, пока стремительно растекающаяся лужа не лизнула ноги. – Какое там «ой», я же теперь тут важная птица, Дарованный, клятву давший, вон у меня что. – Он поднял руку, показал туго облегающую запястье ленту. – Я теперь тут голышом могу по дворцу бегать, никто мне и слова не пикнет. А то ещё помру раньше срока.
Тётка вместо того, чтобы угомониться, вдруг осела на пол и заревела. Навзрыд, уткнувшись лицом в крупные некрасивые ладони. Тиль сполз со стола, плюхнувшись прямо в лужу, опустился на колени, неуверенно коснулся чужих рук.
– Ну чего ты, а? – позвал тихо. – Ну, подумаешь, дурачок деревенский задницу на стене дворца нарисовал, а то они сами как будто не понимали, чего ждать. Я, может, и вилку держать не умею и по нужде хожу в сад. Хотели б манер – вот и брали бы королю в питомцы кого поумнее. Ну чего ты всё ревёшь, женщина?!
Тиль стиснул её руки почти в отчаянии. Она всё заливалась, давилась слезами, подвывала глухо, как побитая собака. Крупное тело, стянутое тугим тёмным платьем, сотрясалось, чепец слетел, показав наполовину седые уже кудри, убранные простой деревянной заколкой с отколотым краем.
Наверху кашлянули.
– Позвольте осведомиться: что я имею удовольствие лицезреть?
Тиль вскинул голову – над ними нависал тонкий, словно высушенный человек в королевских цветах. Белая ливрея с тёмно-лазурными пуговицами, белые туфли, белые перчатки. Такое же белое морщинистое лицо. Белые волосы. И пронзительно-тёмные глаза, впадающие в череп пугающе глубоко.
Старик был некрасив, вышколен и равнодушен. Тётка при звуках его голоса затихла разом, словно умерла, и только мелко подрагивающие ладони выдавали – жива.
– Магда, – уронили сверху, – немедленно поднимись.
Она встала мгновенно, одним рывком и застыла – согнутая пополам, словно переломанная, опухшее лицо было в соплях и слезах. Тиль зачем-то сунул руку в карман – отродясь ведь там не носил платка, но эту одежду ему выдали дворцовые псы, может, сразу туда набор приличного человека и положили…
Ладонь предсказуемо нащупала пустоту.
Человек в ливрее смотрел на Магду так, словно она уже умерла и три дня разлагалась, прежде чем попасться ему на глаза.
– Объяснись, – велел наконец.
Магда залепетала что-то невнятное, сорвалась на всхлип. Рука в белой перчатке взметнулась и с отвратительным хлопком опустилась на опухшую красную щеку.
Тиль шагнул вперёд. Лента на левом запястье отчего-то разогрелась и сделалась туже. Человек в ливрее обратил на него скучающий взгляд, после чего почти незаметно качнулся на носках, так же равнодушно наблюдая, как оседает на пол покоев невесомый пух.
– Чем могу помочь юному господину, Дарованному Его Величеству Адлару этим благословенным днём? – осведомился.
– Вчерашним. – Тиль сделал еще один шаг, вырастая прямо у него перед лицом и загораживая Магду. – Вчерашним днём, мой дорогой… Понятия не имею, кто вы тут.
Пустоглазый поклонился.
– Господин Фридо Мано. Управляющий слугами дворца Его Величества. Полагаю, господин Дарованный не обнаружил в своём столе письменные принадлежности, дабы не использовать не принадлежащий ему более голос.
Тиль криво ухмыльнулся.
– Я уж как-нибудь обойдусь. Писать, знаете, не научен.
За спиной давилась сухими рыданиями несчастная сумасшедшая женщина, и он отчего-то знал, что сдвинется с места, только если упадёт замертво. Пустоглазый склонил голову.
– Прискорбное обстоятельство, господин Дарованный. Его Величество будет уведомлён и распорядится о необходимых мерах. Прошу вас вернуться в покои.
Выразительный взгляд упал на ноги Тиля, и он заметил, что на полступни находится в коридоре. Ухмылка стала шире.
– А с каких пор, господин Макак-вас-там, кто-то, кроме Его Величества, имеет право отдавать Дарованному приказы? Мне помнится, с ним и заговаривать-то не всякому дозволено. Вы у нас что, королевской крови?
– Мой род не велик и не знатен, – равнодушно изрёк пустоглазый.
– В таком случае, может, это мне стоит уведомить Его Величество о некоем «прискорбном обстоятельстве»? – предположил Тиль. Роста, чтобы нависать над человеком в ливрее, ему не хватало, приходилось болтать, задрав голову, но Тиля это уже не волновало: он разгорелся и не мог остановиться. Ещё шаг, вплотную, коснулся небрежно чужих пуговиц, холодных, как кусочки льда. – Что человек простой крови и большой наглости имеет смелость открывать свой рот в присутствии того, кто носит королевскую ленту и свою клятую кровь положит на то, чтобы земли этой клятой страны бед не знали? Его Величество будет рад, как ты думаешь?
Пустоглазый вежливо отступил на шаг и совсем мёртвым голосом доложил:
– Моя жизнь принадлежит Его Величеству и длится до той минуты, когда станет ему неугодна. Магда, иди прочь. Пришли Нотку, пусть принесёт воды господину Дарованному.
Магда выскользнула из-за спины Тиля, поклонилась и, прикрывая рот ладонью, торопливо убрела по коридору. Тиль отступил на шаг, словно его в грудь толкнул порыв ветра. Пустоглазый ещё раз окинул взглядом покои, развернулся на каблуках и ушёл следом. Подол ливреи болтался из стороны в сторону, как хвост ящерицы.
3
Адлар
Каждый третий день нового месяца был Днём Милости. В половину девятого утра, когда солнце насаживалось на шпиль самой высокой башни и сияло, как леденец на палочке, в тронном зале собирались все представители Дворцового Совета и четверть представителей Совета Ташш. Адлар входил последним, слышал стук ударяемых о начищенный пол коленей, молча проходил к своему трону, садился и приказывал: «Поднимитесь».
Его не удивляло, почему преклоняют колени люди из Дворцового Совета. Традиционная кучка бездельников, день за днём разглагольствующих Ташш знает, о чём. Каким должен быть регламент приёмов? Дозволяет ли нынешний век отойти от традиции подавать утку с апельсиновым соусом и сменить его на яблочный? Пора ли белить стены в залах второго этажа и что сажать по весне в южной части сада – тюльпаны или ирисы? Адлар давно упразднил бы этот Совет – не полезнее, чем пятая нога свиньи. Но тогда появилась бы новая беда – толпа высокорождённых бездельников, обиженных на корону.
Словом, Дворцовый Совет падал на колени оправданно, а вот Совет Ташш – от них это было скорее любезностью, чем уважением. Каждый третий день месяца Адлар старался не касаться взглядом их чёрных с серебром одежд. Короли могли закончить своё правление преждевременно в двух случаях: если становились жертвами интриг – и если Совет Ташш заявлял о недоверии короне. Для этого требовалась сотня рук, опустивших в чашу чёрные камни вместо белых, и паршивая овца в стаде носящих чёрно-серебряное, но нынешнему Совету было не с чего плести интриги. У Адлара не имелось ни братьев, ни сыновей – земли хранила только его кровь и ничья больше. И всё же он с трудом терпел рядом с собой тех, кто мог бы спросить с него спустя годы. Будь его воля, он бы упразднил этот Совет ко всем ветрам лихим.