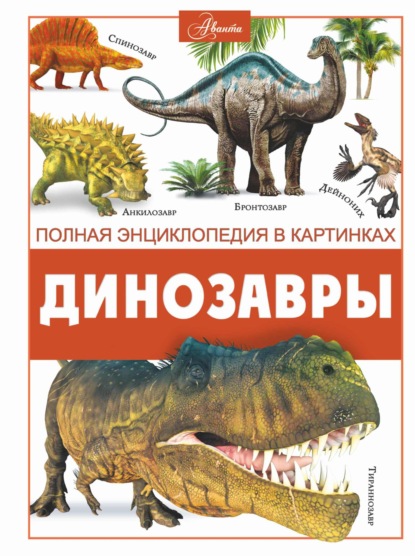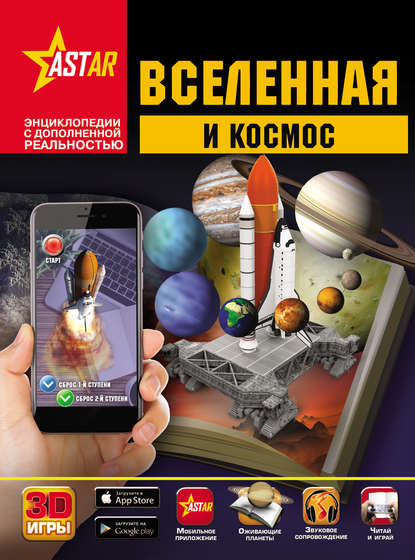Мы все неидеальны. Других людей на эту планету просто не завезли!

- -
- 100%
- +
«Молодой…» – усмехнулись с унисон мужики, но на эту усмешку Никита ничуть не обиделся, в ней не было пренебрежения, наоборот, именно в этот момент он понял, что его окончательно приняли в круг взрослых мужиков, ребенком для них он больше не был!
Походы в баню продолжились и дальше, никто от этой традиции не отказался. Единственное, что изменилось в этих походах для Никиты, после того как ему исполнилось восемнадцать лет – теперь девочек для себя он и выбирал и оплачивал сам.
Глава 13.
И даже у Лизаветы в жизни маленького Никиты оказалась своя и весьма немаловажная роль. Конечно, она и присматривала за ним иногда, если Тамара Сергеевна была занята, и в отпуск они со Старшиной его пару раз с собой брали, но главным было не это.
Когда погиб Юрка, жить уже почти шестилетний тогда Никита переехал к Славе и Тамаре Сергеевне, там и оставался до совершеннолетия. Отцовская двушка в панельной девятиэтажке, доставшаяся ему по наследству (слава Богу, Юрка успел ее приватизировать), пустовала недолго – Лизавета предложила ее сдавать, в 1998-м это вполне уже было возможно, сдавать, а деньги, заработанные от такой сдачи, откладывать, чтобы отдать Никите всю сумму, когда ему исполнится 18 лет. Будет ему неплохое такое подспорье для начала взрослой жизни. Спорить с Лизаветой никто не стал, только вот заниматься такой сдачей тоже никто, кроме нее, не захотел, все-таки поиск арендаторов и общение с ними довольно геморройное дело, да и в перспективу сохранить аж на двенадцать лет заработанные деньги, учитывая еще не забытую Павловскую денежную реформу и общее, тогда совсем плачевное, состояние экономики страны, все считали нереальной. «Ты предложила, ты и занимайся.» – сказали все в один голос Лизавете.
Она и занялась, и занималась этим все двенадцать лет, пока Никита рос. И не просто занималась, на все заработанные деньги она сразу покупала наличные доллары и хранила их дома, «под подушкой», как тогда говорили, что позволило ей эти деньги в течение всех двенадцати лет не только сберечь, но и существенно приумножить. В результате, к восемнадцатилетию Никиты скопилась очень приличная сумма, о чем Лизавета всем торжественно и объявила в сентябре того года, когда Никита перешел в одиннадцатый выпускной класс. Объявила и сказала, что нужно решать, как и на что они будут потрачены.
Решили так – примерно половину – на ремонт в двушке, от постоянного использования арендаторами квартира к этому моменту существенно поизносилась, переехать туда по достижению восемнадцатилетия, как все безоговорочно запланировали (парень же, нечего «возле мамкиной юбки сидеть», пусть сразу самостоятельную жизнь начинает), Никита без ремонта вряд ли бы смог, а вторую половину – оставить на оплату обучения, если Никита «на бюджет» не поступит. Никита возражать не стал, но учился он совсем неплохо, поэтому сразу решил уточнить: «А если я «на бюджет» поступлю, тогда вторую половину на что?».
«Сам тогда и решишь.» – ответили ему.
«Я тогда машину себе куплю!» – воскликнул Никита, мечтавший о собственной машине буквально с младенчества.
Отговаривать его никто не стал.
С того памятного разговора прошло одиннадцать месяцев.
Окончив школу, Никита поступил на Юридический, да не просто так, а «на бюджет», немалые усилия Тамары Сергеевны, постоянно контролировавшей его обучение, в этом смысле, не пропали даром.
А вот выбор университета обсуждался долго и всесторонне – в МГУ, или в Кутафинку (МГЮА имени О.Е. Кутафина), или в один из специализированных ВУЗов МВД России подавать документы – это зависело от того, по чьим стопам намеревался дальше пойти Никита. Если становиться опером, как Максим, Старшина и его покойный отец, то лучше всего в специализированный МВДшный ВУЗ идти, если следователем, как Слава, то можно и на МГУ замахнуться!
Обсуждали мужики этот вопрос горячо, даже спорили между собой, каждый свой путь для Никиты лучшим считал! Никита в этих обсуждениях и спорах больше отмалчивался, на вопрос: «А сам то ты чего хочешь?», отвечал неизменно: «Точно буду в милиции служить, это дело решенное. А куда поступать – когда до дела дойдет, тогда и решу!», уж очень его тогда опека старших раздражала, хотелось, чтобы они во всем его уже не пацаном, а равным себе признали, вот и отстаивал свое право самому решить, где учиться. Поступил в Кутафинку, выбрал средний вариант, так сказать. Мужики спорить не стали, поступление «на бюджет» было безусловным Никитиным достижением, которое неоспоримо давало ему право самому выбрать университет.
В августе ему исполнилось восемнадцать, и тут выяснилось, что планы на накопленную Лизаветиными усилиями сумму меняются не только фактом поступления «на бюджет», но и еще рядом обстоятельств, вернее, подарков.
Машину Никите на восемнадцатилетие подарил Макс, подарил от себя, ни с кем из друзей не объединяясь и не скидываясь, сказал, что это самое малое, что он может сделать для парня, лишившегося отца, в том числе, и по его вине (вины то этой Макс, несмотря на все протесты друзей, никогда с себя не снимал, всегда о ней помнил и особенно остро ощущал ее именно перед Никитой). А вот Слава с женой Мариной и Тамарой Сергеевной и Старшина с Лизаветой как раз объединились, скинулись и купили Никите в квартиру полный комплект новой техники – и в кухню, и в ванную, и даже телевизор со встроенным музыкальным центром. В итоге, из скопленной суммы Никите пришлось потратиться только на косметический ремонт в двушке, да на покупку мебели, которая, благодаря открывшемуся за несколько лет до этого в Химках огромному магазину «ИКЕА», обошлась не так уж и дорого.
Уже к окончанию первой в своей жизни зимней сессии Никита стал обладателем не только двухкомнатной квартиры со свежим ремонтом, но и собственной машины, права на управление которой он тоже уже получил, учась в автошколе параллельно с университетом, а также вполне приличной суммы на счете, которая позволяла ему не только учиться на дневном, о заработках не заботясь, но и девочек в кафе и клуб водить практически без ограничений.
И еще один момент нельзя не упомянуть про Никитино восемнадцатилетие – прямо в тот день, когда все собрались за праздничным столом, Никита, дождавшись завершения основной части тостов и поздравлений и немного прядя в себя от обилия подарков, проводив до такси уезжавших раньше других Славиных жену Марину и трехлетнюю дочку Сашку, которая уже изрядно зевала, явно устав от шумного празднования, вернулся вместе со Славой к столу и задал своим близким давно волновавший его вопрос:
«Я хочу знать правду о своей семье. Понимаю, раньше я был ребенком, и вы не хотели мне рассказывать некоторые аспекты, например, почему так рано умерла моя мама, но сегодня пришла пора. Я хочу знать правду, всю правду!» – сказал он.
Старшие переглянулись, первой откликнулась Тамара Сергеевна:
«Никита, а ты к правде то этой точно готов? Вопрос же не в том, что ты уже вырос, вернее, не только в этом – бывает такая правда, которую даже взрослому человеку знать тяжело. Сначала стремится человек ее узнать, упорно ищет, спрашивает, в итоге, добивается своего – узнает, а потом всю жизнь живет и думает: «Лучше бы не узнавал», так как жить, зная такую правду, ой как, нелегко! Ты хорошо подумал, когда спрашивал? Точно хочешь получить ответ? Не получится потом как в той поговорке: «Бойтесь своих желаний, они могут исполниться!»?».
«К правде я готов и хочу ее услышать,» – твердо ответил Никита, потом, слегка помедлив, добавил: «прямо сейчас.».
«Хорошо, Никита, давай я начну, а остальные дополнят, если я что-то важное упущу.».
Остальные молча кивнули, соглашаясь, и Тамара Сергеевна начала свой рассказ.
Глава 14.
Твоего отца Юру я впервые увидела в мае 1976 года, когда ему вот-вот должно было исполниться двенадцать лет. Меня тогда только-только директором детского дома назначили, до этого я в другом детдоме работала, и не директором, в общем, перевели меня с повышением.
Увидела из окна своего кабинета участкового, который буквально за шкирку тащил извивавшегося, пытаясь вырваться, пацана. За ними шла представитель «детской комнаты милиции», как тогда называли. Завели они пацана в мой кабинет, сели, пацана рядом посадили и говорят: «Вот, Тамара Сергеевна, принимайте, воспитанника. Зовут Юрий Тимофеевич Булавин, в июне ему 12 лет будет. Отца нет, умер, мать только что лишили родительских прав.».
Необыкновенно рослый для своих лет паренек, худ был невообразимо, этакий «мешок с костями», по-другому и не назвать. Смотрел на меня зло, но одновременно, как-то уж очень потеряно, и руками своими со сбитыми в кровь костяшками пальцев по коленям все время ерзал, будто мешали они ему, эти самые руки, не знал куда их деть, как пристроить.
Я вызвала в кабинет педагога-воспитателя, она работала в этом детдоме давно и парня сразу узнала: «Что, Юрка, опять к нам? В третий раз уже! Ладно, пойдем, устрою тебя в группу. Обед скоро.». Юрка встал, прошипел: «Все-равно сбегу, сбегу и к матери вернусь, она у меня самая лучшая!», но за воспитательницей пошел, уже особо не сопротивляясь. Ушли и милиционеры, а я решила личное дело нового воспитанника поподробнее изучить, надо же с контингентом знакомиться, вот с него и начну.
Информация в личном деле была скудной – родился 9 июня 1964 года. Отец умер, когда Юре еще и трех лет не исполнилось, мать, на целых 29 лет младше отца, что по тем временам было почти в диковинку, жива-здорова. В школе-интернате был до этого уже два раза.
Здесь нужно пояснить, что вверенный мне детдом предназначен был исключительно для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а в прошлые разы, когда мальчик Юра попадал в сиротские учреждения, мать его еще родительских прав лишена не была, она его в приют просто по заявлению сдавала, мол, замуж выхожу, уезжаю далеко и надолго, не могу ребенка с собой забрать, прошу государство за ним приглядеть (тогда так можно было, написать заявление, сослаться на личные обстоятельства и добровольно ребенка в государственное детское учреждение передать, как сейчас собачек «на передержку» отдают). Принимали таких детей не в детские дома, а в так называемые школы-интернаты, откуда их родители в любой момент могли назад забрать также по заявлению. За пребывание ребенка в школе-интернате родители даже какие-то деньги государству платили, а еще из школ-интернатов родители могли детей на выходные и праздники домой забирать. Вот именно в школу-интернат, а не в наш детский дом Юра два прошлых раза и попадал, так что формально он у нас в первый раз был.
Вот только детский дом и школа-интернат, так уж сложилось, исторически располагались в двух соседних зданиях, и практически все педагоги-воспитатели в одном учреждении работали, а во втором подрабатывали, зарплаты то тогда в сиротских учреждениях были совсем невысоки, вот и приходилось совмещать. Благодаря такому почти поголовному совмещению, а также тому, что львиная доля воспитанников рано или поздно из школы-интерната в детский дом перемещалась, родители то практически у всех неблагополучные были, что к такому перемещению, за редкими исключениями, неизбежно и приводило, воспитанников что одного, что второго учреждения воспитатели практически не делили, не различали, поэтому и сказала тогда вызванная мною к Юре педагог-воспитатель, что он к нам уже в третий раз.
В первый раз в школу-интернат Юра попал в 7,5 лет, как уже было сказано, по заявлению матери, пробыл восемь месяцев, потом мать, вроде, опомнилась, вернулась и мальчишку забрала. В 10 лет опять в школе-интернате оказался, и опять по заявлению матери, пробыл 1,5 года, и опять она его забрала. Только получается ненадолго, и нескольких месяцев не прошло, как сына у нее изъяли, теперь уже именно изъяли, а не по ее заявлению привезли – пить стала сильно, ребенком не занималась, вот милиция судьбой отца твоего и озаботилась. Изъяли и в детдом передали, так как мать лишили родительских прав, и Юра уже стал считаться «ребенком, оставшимся без попечения родителей», а таких именно в детдом и помещали.
«Совсем мать его, что ли, не кормила?» – помню подумала я тогда, «Худющий, аж жуть берет. И руки сбиты, явно дрался, с матерью или с кем другим пока непонятно.». Решила ту самую воспитательницу, кто давно работает, о мальчишке и судьбе его незавидной поподробнее порасспросить.
Рассказ воспитательницы, не только давно в этот детском доме работавшей, но и живущей всю жизнь неподалеку, как и большинство других воспитателей, а также воспитанников (детдома то тогда по районному признаку формировались), был гораздо более обширным, чем информация из личного дела Юры, и изобиловал множеством подробностей, за достоверность которых я не поручусь – проверить их не было возможности, ни тогда не было, ни потом не представилось, а сплетничать обо всем и обо всех тогда страсть как любили, могли любой рассказ так переиначить, что настоящая ситуация в таком рассказе вообще на противоположную менялась. Недаром тогда поговорка в ходу была: «Толи он украл, толи у него украли, в общем, была там какая-то некрасивая история!». Я сейчас перескажу как мне воспитательница та рассказывала, за давностью лет и невозможностью проверить, примем, условно, за правду.
Бабушка твоя, отцу твоему Юре, стало быть мама, та самая, которая его в детдом (для удобства повествования уточнять когда это школа-интернат была, а когда именно детдом, больше не будем, если по сути, детдом – он и есть детдом, как его формально ни называй) все время передавала, звали ее Анна, в Москву приехала в самом начале 60-х годов. Приехала «по лимиту», так тогда называли своеобразные квоты, которые выделяли московским промышленным предприятиям для покрытия дефицита рабочих рук, в основном, или совсем неквалифицированных или очень низкоквалифицированных, за счет привлечения людей из регионов. Устроилась на завод, тот самый, который ее «по лимиту» и нанял, поселилась в общежитии при заводе. Откуда она родом, и почему решила в Москву поехать, я не знаю, знаю только, что ей тогда только-только восемнадцать лет исполнилось.
Уже через несколько месяцев после приезда в Москву молоденькая Анечка, что называется, «ухватила Бога за бороду» – в нее без памяти влюбился сорокасемилетний инженер с того же завода Тимофей Булавин, твой будущий дед, стало быть, да не просто влюбился, а сразу жениться предложил и к нему переехать. Жил он в двухкомнатной кооперативной квартире, которую ему все тот же завод «за долгую службу» предоставил возможность приобрести. Квартиру в Москве тех времен получить можно было практически только двумя способами – или ее государство давало бесплатно, но только нуждающимся и только по очереди, а ждать эту самую очередь порой приходилось десятилетиями, или в жилищно-строительный кооператив вступить, их как раз в самом конце 50-х опять разрешили (до этого они во времена НЭПа существовали, но вместе с НЭПом и в Лету канули), внести первый взнос, дождаться, пока построят, поселиться, а потом лет двенадцать еще так называемый пай выплачивать («Напоминает, кстати, нынешнюю ипотеку» – подумал в этот момент Никита, но вслух ничего говорить не стал, чтобы рассказ Тамары Сергеевны не перебивать).
Жилищно-строительные кооперативы образовывались также при предприятиях, где люди работали, тогда вообще очень многое в твоей жизни зависело от того, где ты работаешь. И, кстати, вступить в кооператив дозволялось далеко не всем, такое право еще заслужить нужно было, да и деньги на первый взнос собрать, по тем временам, совсем немалые. Но дед твой все эти преграды благополучно преодолел, в кооператив вступил и к появлению в его жизни Анечки был уже полноправным обладателем квартиры, той самой, которая тебе потом по наследству от отца досталась, и в которой ты в скором времени как раз и поселишься.
И не просто квартиры, а квартиры двухкомнатной, что, думаю, ему тоже немалых усилий стоило – и дело здесь далеко не только в размере первого взноса, который для двушки, очевидно больше, чем для однокомнатной. В те времена жизнь была «принудительно рациональной», людям никакие излишества приобретать просто не позволяли, все же в дефиците (про дефицит Никита понимал, про это в школе рассказывали), а дед твой на момент вступления в ЖСК был одинок, непонятно, как ему двушку купить позволили, но факт остается фактом – была у него не просто квартира, а именно двушка.
Анечка дважды просить себя не заставила, выйти за Тимофея замуж мигом согласилась и в квартиру его в тот же день и переехала, благо, переездом это назвать было сложно, только через двор перейти – кооперативный дом построили аккурат напротив заводского общежития, так тоже тогда повсеместно принято было. Переехала и тут же прописалась, да по-другому и быть не могло, тогда институт прописки четко работал – вышла замуж за москвича, можешь к нему прописаться и навсегда уже москвичкой стать, никто уже тебя из Москвы никогда никуда не выпишет, разве что в тюрьму попадешь и после отсидки за 101-й километр отправят (некоторым судимым тогда в Москву возвращаться после отбытия наказания не позволялось, селиться им разрешали не ближе 100 км. от Москвы).
Зажили, вроде, ладно, да только Анечка очень быстро заскучала, Тимофей то был немолод, а по тем временам, так считай, что даже очень немолод, тогда другое отношение к возрасту было, на танцульки с ним не сходишь, в парке до рассвета не прогуляешь, кино, книги, музыка – все ему другое нравится. Анечка годик потерпела, помучилась, да и загуляла, вот только загулы свои от мужа она тщательно скрывала, не чувствовала еще окончательной уверенности в устойчивости своего положения в Москве. Гуляла-не гуляла, а вскоре забеременела.
В 1964 году родился твой отец. Тимофей, на радостях, супруге сервиз импортный на двенадцать персон в подарок за сына преподнес, где только достал, это же один из самых недоступных, один из самых дефицитных товаров тогда был.
Первый год после Юркиного рождения родители его, вроде, неплохо друг с другом жили, вместе растили мальца, Анечка как-то даже подуспокоилась. Но как только сыну год исполнился, и она его от груди отняла, так сразу вновь и загуляла, только теперь уже мужа своего совершенно не стеснялась, почувствовала уже неуязвимость своего положения.
Так еще почти два года прошло, Анечка от Тимофея гуляла все разнузданнее, совсем уже ничего не стесняясь, он пытался ее уговорить, усмирить, урезонить, да ничего не помогало, а развестись не мог – он в сыне буквально души не чаял, а если с супругой расходиться, то она сына заберет! Тогда малолетних детей отцам вообще никогда при разводе не оставляли, если только мать сама не отказывалась.
Терпел, ребенком, по большей части, сам занимался, матерью Анечка уже тогда никакой была, хотя любила сыночка без памяти, но любовь ее какая-то очень однобокая была – когда рядом с сыном, давай его целовать-миловать без устали, все разрешает, балует безмерно, а вот воспитывать, да и просто обихаживать – кормить, одевать, спать укладывать – это не к ней, ей эти занятия совсем ненужные и неинтересные.
Глава 15.
Накануне трехлетия Юры мать объявила, что встретила она свою неземную любовь и с отцом его разводится, а квартиру потребует разменять, да так, чтобы все ей с сыном досталось, а Тимофей, в лучшем случае, где-нибудь в коммуналке комнату получит, у нее же все права, на ее стороне правда – у нее же малолетний РЕБЕНОК!
Тимофей не стерпел, ответил, что за сына судиться с ней будет, и, несмотря на всю кажущуюся невозможность своей победы, суд этот обязательно выиграет, он, мол, за эти годы много материалов разных собрал, доказывающих, какая никудышная из Анечки мать! Поэтому вовсе не он, а Анечка в комнату в коммуналке, а может и вообще назад в общагу съедет.
И Анечка в ответ не смолчала, объявила, что на суде скажет, что Юрка и не от Тимофея вовсе, и доказательства приведет – притащит на суд настоящего Юркиного отца, с которым она еще до рождения сына периодически жила, да только Тимофей ничего об этом не знал. Толи правду сказала, толи соврала, о том история, как говорится, умалчивает, только итог у ее слов оказался один – у Тимофея той же ночью сердечный приступ (так в народе инфаркт тогда называли) случился, а через два дня его не стало.
Тимофея похоронили, Анечка с Юркой в его квартире остались полноправными хозяевами, даже разменивать ничего не пришлось, тем более что, как оказалось, пай за квартиру Тимофей в ускоренном порядке к тому моменту уже выплатил, видно, о сыне так заботился, чтобы случись с ним чего, мальчишка на улице не остался. Таков был его прощальный подарок сыну.
Очень быстро Анечка начала осознавать, что жить без мужа ей вовсе и нелегко и не нравится. Заработок ее на заводе невелик, а малец растет, не по дням, а по часам растет, кормить нужно, одежду каждые полгода менять приходится, да и самой хочется и платьице, и колечко, и на море поехать! В общем, несладкой, совсем даже несладкой жизнь без мужа оказалась! И стала себе Анечка этого самого мужа усиленно искать, да вот только среди местных ее историю все знали, никто с гулящей связываться не хотел.
Когда Юрка уже в первый класс пошел, нашла себе какого-то толи геолога толи моряка откуда-то с Севера, Юрку в первый раз в детдом сдала, а сама уехала, уезжая рыдала, молила сына о прощении, клялась забрать его, как только сама устроится, говорила, что все это для него делает, чтобы отец у него появился, да такой, который и обеспечит и приголубит.
Юрке в детдоме несладко пришлось, мало того, что в детдомах обстановка и так не сахарная, так у него еще и мать гулящая, о чем вся округа знает. Крепко ему в первое пребывание в детдоме доставалось и от старших пацанов, и от ровесников, и даже от старших девчонок, в детдоме то слабых нет, не выживают там слабые, поэтому и девчонки, тем кто, в силу возраста, слабее, навешать так могут, мало не покажется! Потом мать вернулась, устроилась опять на завод, забрала его, не сложилось у нее там что-то толи с геологом толи с моряком.
Почти два года они с матерью более-менее спокойно прожили, только Юрка дрался все время, опытом детдомовским наученный всегда бить первым. Все время в драку бросался, за мать заступаясь, если кто ее оскорблять начинал, ну, или ему казалось, что оскорблять.
Исполнилось ему десять, и опять мать «за счастьем» уехала, а его в детдом вернула. Только Юрка уже готов был к детдомовским порядкам, с первого дня покоя никому от него не было, в драку ввязывался по несколько раз на дню, повод всегда находился – то на него не так посмотрели, то не то сказали, то перебили, не дослушав. Воспитатели только за голову хватались, не знали как с ним справиться.
Через год узнал он, что мать вернулась, да только его забирать не торопится. Она к тому моменту окончательно замуж выйти отчаялась, на завод вновь устроиться не смогла, надоели начальству ее систематические приезды/отъезды, жить самой было не на что, куда уж ей пацана забирать.
Постепенно нашла она другой способ заработка, сдружившись с местной знаменитостью по прозвищу «Шпала». Шпала прозвище свое неслучайно получила, с одной стороны, фамилия у нее была подходящая – Шпалова (в этот момент Никита весь внутренне напрягся, готовясь к следующей порции, прямо сказать, не самых приятных для него новостей, мама то его тоже Шпалова была, Иоланта Трофимовна Шпалова), а с другой стороны, на жизнь она зарабатывала проституцией на вокзале, только таких тогда не проститутками называли, а шалавами (наличия проституции в СССР официально не признавали, ну не может советская гражданка на пути к коммунизму таким способом на жизнь зарабатывать), так вот и получилось, что вокзальная шалава Шпалова стала Шпалой, ну как ее еще назовешь? Вот с ней мама Юркина и сдружилась на почве совместного заработка, так сказать.
У Шпалы дочка была на пять лет старше Юрки, в том же детдоме периодически оказывалась, когда мать в запои уходила. Когда девочка только родилась, мать назвала ее Ирой, а летом 1964 года вышел на экраны фильм под названием «Иоланта», Шпала, на что уж шалава, а туда же – мечтала, оказывается, о романтике и неземной любви, фильм этот посмотрела и, под влиянием так поразившего ее сказочного романтического сюжета, имя дочери в метрике (свидетельстве о рождении) официально поменяла на Иоланта. Про отца Иры/Иоланты вообще ничего никому известно не было, в ее свидетельстве о рождении в графе «отец» прочерк стоял, откуда отчество взялось Трофимовна, наверное, одной Шпале и было ведомо.
Как ты, Никита, наверное, уже понял, дочь Шпалы и станет в будущем твоей мамой.» – произнесла Тамара Сергеевна и остановилась, с беспокойством глядя на Никиту, все-таки открывавшаяся ему правда, которую он так хотел узнать, была далеко не самой приятной, но Никита ответил ей твердым взглядом, значит, уверенности своей в необходимости эту самую правду узнать, какой бы она ни была, за время рассказа не утратил. Пришлось Тамаре Сергеевне продолжить.
«Так вот, бабушка твоя по отцовской линии на жизнь стала зарабатывать также как и Шпала, и пила вместе с ней, а потом Шпале пришло в голову дочку из детдома забрать, Иоланте тогда уже шестнадцать исполнилось, хотела она ее к «ремеслу» своему пристроить. Никто Шпале помешать дочь забрать не смог, ни милиция, ни школа, ни детдомовское начальство, хоть и понимали все зачем ей девочка понадобилась, да доказать это никак невозможно было, за мысли же не судят. Я поэтому времена, когда мама твоя в детдоме жила, не застала, познакомилась с ней уже намного позже.