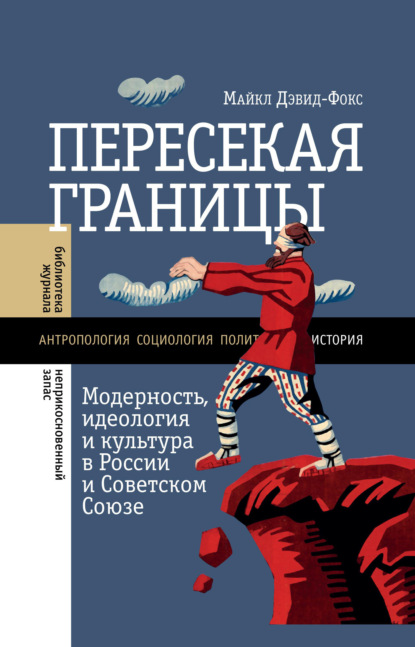Название книги:
Пересекая границы. Модерность, идеология и культура в России и Советском Союзе
Автор:
Майкл Дэвид-Фокс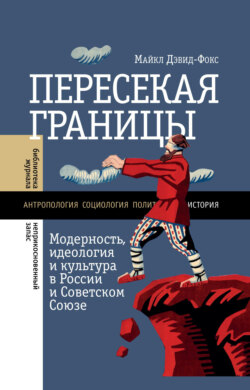
000
ОтложитьЧитал
Лучшие рецензии на LiveLib:
red_star. Оценка 98 из 10
Сборник малосвязанных статей автора, чья книга о попытках советского культурного влияния на Запад произвела когда-то глубокое, но неоднозначное впечатление. Работы неравнозначны – рассказы о Ромэне Роллане, его советской жене и Эрнсте Никише выглядят как несколько переработанные главы из упомянутой книги, тогда как главы о советской идеологии и ее месте в современной историографии, о Коммунистической академии как противовесе Академии наук, о Культурной революции 1928-1931 и слишком узком ее толковании хороши, но слишком кратки для серьезного анализа. Но вот первая работа, довольно развернутое эссе о модерности и спорах о ее наличии/отсутствии в СССР, делают книгу интересной. Дэвид-Фокс сразу в нескольких статьях пикируется с Малиа, высмеивая его градиент развития, которое якобы снижается от Западной Европы к нашиv с вами краям (мол, мы достигаем той же степени развития, что ЗЕ с фиксированным лагом), но с некоторой иронией можно похожий градиент найти в самой книге Дэвида-Фокса – первая статья ярче второй, вторая – третьей, etc.Итак, автор взял на себя труд обобщить спор, проходящий красной нитью через всю историографию о Советском Союзе, а также находит в себе смелость предложить решение, снимающее крайние противоречия этого спора (не проговаривая, правда, всех последствий такого решения). Мои познания о расколах в западной историографии ранее ограничивались старинным уже спором между тоталитаристами и ревизионистами, но, оказывается, есть куда более современный повод поломать копья. Дэвид-Фокс говорит, что историки поделились на два лагеря по вопросу наличия/отсутствия модерна в СССР. Переводя с птичье-исторического вопрос состоит в том – был ли СССР вариантом современной нормы или традиционным государством (тут варианты разнообразны, либо отклонением в никуда, либо возвратом к допетровским нормам, либо просто еще одной инкарнацией вечной и неизбывной русской тоталитарной матрицы). В начале 90-х несколько авторов (в первую очередь Коткин ) аккуратно, со множеством оговорок написали, что СССР – вариант нормы, государство модерна. В ответ на это другие авторы стали говорит, что так говорить нельзя, ведь норма – это рыночная экономика и либеральная демократия, а раз этого нет, то и модерна в СССР нет. Ясное дело, что по большому счету это спор о словах, каждый исследователь под «модерном» понимает свое. Но за этим спором стоит большой концептуальный вопрос.Западная историческая наука фактически лишена своей, прости господи, онтологической схемы развития. В марксизме она намечена, а в позитивизме – нет, и с этим тяжело жить, ведь очевидно же, что государства меняются, а как это интерпретировать – нет понимания. В этом свете поиск модерна – это запоздалая и не очень убедительная попытка создать стадиальную теорию для позитивизма. Характерно здесь то, что эта попытка сама по себе нашла отзыв у всех историков, но вот попытка применить ее к вроде бы уникальному СССР вызвала жаркие дебаты. Авторы поделились на два лагеря – одни утверждают, что норма только одна, западная, модерном можно назвать только такой набор характеристик, который присущ современному Западу. При таком толковании термина СССР, естественно, в прокрустово ложе не укладывается. Занятно, что среди сторонников узкого понимания термина оказались почти все наши авторы, делающие карьеру за рубежом, чье формирование пришлось на 80-е и крах советской системы (рискну предположить, что и для Добренко, и для Эткинда, и для Слезкина признать СССР вариантом нормы не представляется возможным – это слишком сильно ударит по всему их мировоззрению, т.е. отказ носит не научное, а идеологическое измерение). Противоположный лагерь представлен в основном западными специалистами, которые с удивлением увидели в СССР схожие с Западом черты.Любопытно, что в лагере традиционалистов оказались и гуру ревизионизма Фицпатрик, и Лено, и Терри Мартин (по книгам первой и третьего так и не скажешь, если честно). По Дэвиду-Фоксу они считают СССР традиционным государством из-за наличия блата и патрон-клиентских отношений. В противоположном лагере – уже упомянутый Коткин, сам автор, Хоффманн , Холквист и Коцонис, если ограничится наиболее известными именами. Спор вышел в иную плоскость, когда более молодые авторы начали сравнивать СССР не со странами Западной Европы, а с третьим миром – Турцией, например. Тут сходство многих черт стало довольно очевидным, и такое сравнение, наконец-то, подтолкнуло авторов к идее множественности модернов. Таким образом речь можно вести о наборе признаков (социальная политика, гендерные решения, образование), которые могут объединять страны с различными экономиками и наличием/отсутствием демократии. Теория множественных модернов удачно вписывает СССР в широкие границы нормы. Собственно, автор ссылается в этом эссе на «Темную сторону демократии» Майкла Манна, а я сошлюсь на его «Источники социальной власти» , в которых он имплицитно также поддерживает теорию множественных модернов. Есть в эссе ссылка и на Скотта с его «высоким модернизмом», получается, что он тоже имплицитно считает СССР вариантом современности.Советский модерн отрицается противниками еще и потому, что признанием его таковым будет означать, что СССР действительно был альтернативой западному модерну, а не порождением средневекового мракобесия или еще чем-то. В этом плане любопытно вспомнить, что некоторые черты западного модерна появились в СССР раньше, чем на Западе – социальное обеспечение и положительная дискриминация, например. В этом свете эссе Майкла Дэвида-Фокса напоминает недавно перечитанную книгу Алексея Миллера. Если второй пишет о том, какую рамку методологически продуктивнее применять к истории Российской империи, то первый делает тоже самое для советского периода. Любопытно было читать, что советский пример нормализации – далеко не первый. Такое встраивание в общий нарратив пережила и ВФР (с ней было просто, доброжелателей было довольно много), и Германия в целом с ее Sonderweg, и нацистский период с его Холокостом (тут процесс был сложнее).Аккуратный, нюансированный порыв автора найдет отклик только у его же сторонников. Думаю, что противники не согласятся на снимающую противоречия множественную модерность, так как история СССР все еще предельно политизирована. Автор сам приводит пример книги Гетти, в которой возродилась концепция вечной неизменной России, возникающей раз за разом под новыми обличиями. Гетти уравнивает бояр, сталинских руководителей и современных приближенных Путина, наплевав на любые нюансы. Вряд ли стоит ждать здесь смены парадигмы. Любопытнее в этом плане увидеть ответ «социологов» с Фицпатрик во главе. Вторым по значимости в книге мне показалось эссе о значимости идеологии в СССР. Тоталитарная школа исходила из презумпции подавляющей власти идеологии в СССР, в ее примате над реальностью. Этот очевидный перегиб, который приводил к полному отказу от анализа конкретных обстоятельств, настолько дискредитировал разговор об идеологии, что новые поколения историков, если верить Дэвиду-Фоксу, оставляют ее за границами своих исследований. Те же, кто рискует связываться с ней, пишут только об отдельных ее слоях. Автор сравнивает такой подход с известной притчей о слоне и слепых, которые его щупали. Мол, так мы общей картины не увидим. Надо, мол, видеть сразу весь континуум, от доктрины к дискурсу, от веры к мировоззрению. Ощущается и легкий пинок Коткину с его метафорой теократии, мол, скучно это и только уводит в сторону. В итоге можно сказать, что Дэвид-Фокс предлагает интересный формат для проведения исследований, в который должно быть встроено и понимание модерности СССР, и поиск смысла его отличий от других модернов, как в первом, так и в третьем мире. Делать это надо, как минимум, не забывая о важной роли, которую играла идеология, которая при этом постоянно вынуждена была подстраиваться под обстоятельства. Удачи автору, любить его менее последовательные исследователи вряд ли будут. P.S. Не могу не отметить авторское наблюдение, что российская интеллигенция изменила себе и от столетнего пиетета к народу с развалом СССР перешла к презрению к нему.P.P.S. В эссе о Никише автор рассказывает, в том числе, о Киппенбергере, возглавлявшем М-Аппарат в КПГ. В 1937 его у нас расстреляли. Какими людьми разбрасывались!
Издательство:
НЛОКниги этой серии:
- Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение
- Советский кишлак. Между колониализмом и модернизацией
- Арийский миф в современном мире
- Культура Два
- Об ограниченности ума
- Очерки по социологии культуры
- Мос-Анджелес. Избранное
- Россия–Грузия после империи (сборник)
- Украина и соседи: историческая политика. 1987-2018
- Быт и инобытие
- Будущее ностальгии
- Пересекая границы. Модерность, идеология и культура в России и Советском Союзе
- «Жить в двух мирах»: переосмысляя транснационализм и транслокальность
- Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи
- Демонтаж коммунизма. Тридцать лет спустя
- Конституция 1936 года и массовая политическая культура сталинизма
- Другая свобода. Альтернативная история одной идеи
- Несовершенная публичная сфера. История режимов публичности в России
- Эпоха человека: риторика и апатия антропоцена
- Общие места. Мифология повседневной жизни
- Эпоха добродетелей. После советской морали
- Посткоммунистические режимы. Концептуальная структура. Том 2
- Посткоммунистические режимы. Концептуальная структура. Том 1
- Европейская мечта. Переизобретение нации
- Вещная жизнь. Материальность позднего социализма
- АУЕ: криминализация молодежи и моральная паника
- Чужими голосами. Память о крестьянских восстаниях эпохи Гражданской войны
- Политические эмоции. Почему любовь важна для справедливости
- Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика
- Новое недовольство мемориальной культурой
- Внеждановщина. Советская послевоенная политика в области культуры как диалог с воображаемым Западом
- Изобретение прав человека: история
- Советские ветераны Второй мировой войны. Народное движение в авторитарном государстве, 1941-1991
- Северные морские пути России
- Голоса советских окраин. Жизнь южных мигрантов в Ленинграде и Москве
- Крепость тёмная и суровая: советский тыл в годы Второй мировой войны
- Пережитки большой войны
- Политика различий. Культурный плюрализм и идентичность
- Между «Правдой» и «Временем». История советского Центрального телевидения
- Кривое горе. Память о непогребенных
- Грабеж и спасение. Российские музеи в годы Второй мировой войны
- Этика идентичности
- Погоня за величием. Тысячелетний диалог России с Западом
- Немецкий дух в опасности
- Философия заботы
- Потерпевшие победу. Советские либералы и крах демократии в России (1987–1993 годы)
- Насилие. Микросоциологическая теория
Метки:
идеология в СССР, исторические исследования, история СССР, культурная революция, модернизм, отечественная история, Россия начала XX века, советская культура