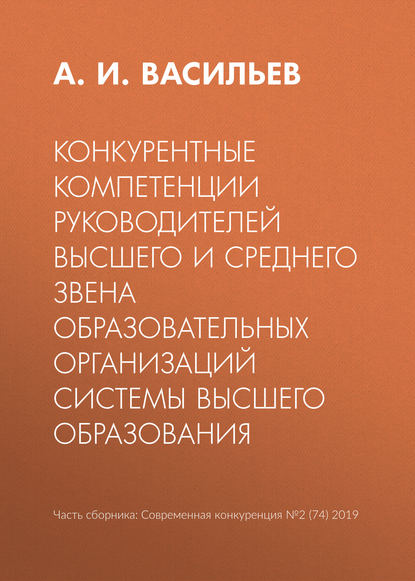В тишине Эвереста. Гонка за высочайшую вершину мира

- -
- 100%
- +
Так за последние недели 1914 года сложилась топография Армагеддона. Линии окопов протянулись на 740 километров от швейцарской границы до Ла-Манша. В британской зоне ответственности находились самые трудно обороняемые участки местности. Низменности Фландрии с пропитанной водой почвой почти не имели высот – наивысшая точка не превышала 60 метров. Малейший холмик приобретал стратегическое значение, и люди тысячами гибли за высоту, которая в графстве Суррей с его холмами осталась бы попросту незамеченной. Линия британских окопов оказалась поразительно короткой. От Ипра до Ла-Манша оборону держали бельгийские войска. На юге французы контролировали фронт от Пикардии и Соммы до швейцарской границы. Британский сектор, опирающийся на города Армантьер, Аррас и Альбер, простирался от Ипра на юг и немного на восток в северную Францию, через шахты Ланса, к хребту Вими, через реку Скарпе у Арраса и вниз к Сомме. На протяжении большей части войны длина этой линии составляла всего 136 километров и ни разу она не превысила 200.
Британская зона боевых действий, в которой жили, учились воевать и умирали миллионы человек, имела размеры всего 80 на 96 километров. На западе было море и крупные перевалочные порты и базы – Этапль, Гавр и Руан. На востоке стояли немцы. Для снабжения и обороны примерно 160 километров линии фронта британцам пришлось вырыть более 9600 километров траншей. Стандартный запас лопат для армии в военное время составлял 2,5 тысячи штук, а в грязи Фландрии их потребуется более 10 миллионов. Тысячи британских шахтеров круглосуточно рыли туннели под линией фронта к германским укреплениям и устанавливали заряды, а грохот от взрывов был слышен в Лондоне.
Янг писал в дневнике в феврале 1915 года: «Историй о сумасшествии очень много. Долго выносить тяжесть артобстрела, по всей видимости, не может никто. Например, в одной нашей траншее почти все люди оказались мертвы, когда через четыре дня удалось отбить атаку. Оставшийся в живых младший офицер спасался тем, что пил бренди, чтобы вынести все это, – ему пришлось заколоть штыком своего командира, который обезумел и пытался застрелить его».
Янг пробыл в Ипре с ноября 1914 по конец июля 1915 года. Его отчеты и заметки, собранные в книге «Из окопов», стали одними из первых и ярчайших свидетельств очевидца конфликта, не похожего ни на один из известных ранее.
«Это не война, – писал он. – Это чудовищное извращение цивилизации. Называть это войной – значит подразумевать, что где-то еще есть солнце и свет. А мы существуем под вспаханным разрывами небом чернильных ночей и дождя».
Однажды ночью он ехал на машине, время от времени тьму прорезал колеблющийся свет церковных свечей, горящих в придорожных святилищах. В какой-то момент Янг заглушил двигатель, и во внезапно опустившейся тишине послышался лишенный эмоций женский голос, вопросивший: «Это что, смерть?»
Потоки человеческого страдания – беженцы, спасающиеся от немецкого террора, заполонили дороги Бельгии. В развалинах Ипра раненые и контуженные британские солдаты, покрытые грязью, пробирались по изрытым взрывами улицам. Неподалеку, на выжженной, словно пятнами проказы покрытой земле, лежали распухшие и почерневшие трупы тысяч человек, и над всем висел ужасающий смрад разложения.
«В полуразрушенном помещении, которое ранее, возможно, было ризницей, молодой хирург Медслужбы королевских войск в одиночку с ураганной скоростью работал с ранеными. Их лежало бесконечно много на залитом кровью и разбитом полу, а с улицы заводили и заносили новых. Я запомнил его лицо – неподвижную, застывшую маску и стальной взгляд голубых глаз. Точность, с которой он разрезал одежду, перевязывал раны, бинтовал конечности и переходил к следующему пациенту, делая все это молча, была столь же поразительна, как и скорость его работы. Внутри помещения, более походившего на разделочную, было тесно, шум снаружи отвлекал, все вокруг покрывала горячая пыль от шрапнели, рвущейся над разрушенными стенами. Часто те, кто приводил или приносил пострадавших, сами получали ранения, пока добирались до медпункта. Поразительно, как мог доктор выдерживать все это в течение многих часов, да еще в одиночку».
Янга поражало количество страданий. Налицо была острая необходимость в увеличении медицинской поддержки войск. Янг бросил журналистику и начал работать в им самим созданном подразделении неотложной помощи. Он вовсю использовал связи, чтобы держать медперсонал ближе к линии фронта – так можно было сохранить больше жизней. Сначала во Фландрии, а затем в Италии Янг и его коллеги за четыре года спасут более 100 тысяч раненых солдат, прежде чем сам он получит тяжелое ранение. Если можно так выразиться, источником вдохновения здесь стал Ипр. Янг был в городе 22 апреля 1915 года, когда немцы впервые в истории атаковали с применением отравляющего газа[4].
«В тот день бомбардировка казалась особенно тяжелой… Я в беспокойстве ходил по кабинетам и палатам. В одной палате лежал раненый солдат. Он был в полукоматозном состоянии, которое впоследствии назвали «снарядным шоком», за ним ухаживали, а он непрерывно бормотал: «Белые лица… лунный свет… белые лица». Я вышел на улицу и увидел солдат на фоне каких-то бледно-желтых облаков – фигуры в хаки бежали через поля к северо-востоку от нас… Потом начали поступать первые жертвы газа. Сперва происходящее было слишком чудовищным, чтобы в него поверить. Но когда это случилось, когда стало понятно, как далеко мы ушли от цивилизованного мира, в котором жили всего несколько месяцев назад… Вид людей, лежащих на полу медпунктов и в полях, задыхающихся и исходящих пеной, заставил меня бушевать с такой яростью, которая никогда более не проявлялась, даже когда род человеческий деградировал до создания лагерей смерти в Германии. Ведь вначале мы все еще считали всех людей – людьми».
* * *Артур Вейкфилд прошел свой путь через отчаяние и агонию. Он попал на войну глубоко верующим человеком, ярым приверженцем англиканской церкви, соблюдавшим все предписания: никогда не брал в рот спиртного и не пропускал воскресную службу. Как вспоминал Джеффри Янг, Вейкфилд при росте 1 метр 173 сантиметра, весе 72,5 килограмма был очень сильным и стал чемпионом по боксу и гребле в университете. Жажда приключений заставила его в 1900 году прервать учебу на медика, записаться кавалеристом в 70-й эскадрон Имперской йоменской армии и отправиться на Англо-бурскую войну. Год жизни в Южной Африке выковал в нем имперский характер и заставил уверовать в высокое предназначение христианина и европейца. По завершении медицинского образования в Эдинбурге и Гейдельберге Вейкфилд начал работать в Королевской национальной ассоциации рыбаков и свел знакомство с миссионером Уилфредом Гренфеллом, основавшим не одну миссию на скалистых берегах Ньюфаундленда и Лабрадора, первого и старейшего владения британской империи[5].
Вейкфилд прибыл в Ньюфаундленд в 1908 году, когда море еще было черно от трески, а мойва ходила на нерест в таком количестве, что ее икра покрывала всю прибрежную полосу. Шесть лет он вел полную лишений жизнь: страшные морозы зимой, тучи комаров летом, рацион из муки, сала, патоки, чая, мяса карибу и соленой рыбы. Он патрулировал на собачьих упряжках, лошадях и оленях, пешком или на лодке все побережье Лабрадора – изрезанную береговую линию протяженностью почти 8 тысяч километров. Будучи одним из двух дипломированных врачей в огромном регионе, Вейкфилд лечил любые болезни – от цинги и туберкулеза до травм от нападения медведя и пулевых ранений. В один приснопамятный день он удалил 149 зубов. Преданный Богу и королю, невосприимчивый к физическим страданиям, умеющий лечить и потому считавшийся всемогущим у всех, кого он спас, Вейкфилд стал одним из столпов колониализма на дикой окраине империи. На фотографии из семейного альбома он сидит на айсберге в трусах и майке, собираясь прыгнуть в темные океанские воды, чтобы поплавать – одна из обязательных составляющих его утреннего моциона.
Весть о войне пришла в Ньюфаундленд летом, когда все население края находилось в море на промысле трески. Едва новости достигли Лабрадора, Вейкфилд немедленно отплыл в столицу Сент-Джонс на первом же рыболовецком судне. 10 августа он присутствовал на заседании местного правительства, поскольку, будучи в чине капитана, принимал непосредственное участие в создании ньюфаундлендского подразделения Легиона пограничников – общеимперского ополчения, появившегося во времена Англо-бурской войны. На собственные средства Вейкфилд экипировал и снабдил оружием все местные силы.
В 1914 году винтовки в Ньюфаундленде были в дефиците, и когда 21 августа правительство объявило о призыве 500 добровольцев с хорошим жалованьем и бесплатным проездом до Сент-Джонса из любого уголка колонии, стало очевидно, что первыми откликнутся те, кого Вейкфилд отбирал и вооружал. Это были молодые люди, многих из них он знал еще подростками, – учителя, звероловы, фермеры и рыбаки из сотни бухт и речных долин, небольших городков и миссионерских постов. Так, благодаря чувству долга и высокого предназначения Артура Вейкфилда возникла легендарная Первая пятисотка, ядро Ньюфаундлендского полка, в составе которого на войну отправится более 7 тысяч человек, и каждый второй из них будет ранен или убит.
Ни сам Вейкфилд, ни его парни, проходившие мимо толпы на улицах Сент-Джонса 3 октября 1914 года, не представляли, какими будут потери. У причала стояло военное транспортное судно Florizel, которое должно было доставить новобранцев в Англию. Юноши с нетерпением взяли винтовки с примкнутыми штыками и промаршировали на борт корабля под полковым знаменем. Толпа ликовала, и все присутствующие, включая солдат, радостно исполнили «Auld Lang Syne»[6].
Переход через Атлантику занял 11 дней. После высадки в Плимуте будущих бойцов перевезли в тренировочный лагерь на Солсберийской равнине. Здесь они пробыли долгую осень и сырую зиму, промокнув на всю оставшуюся жизнь, так как за четыре месяца, пока они маршировали и отрабатывали навыки, которые старые учебники по военной подготовке называли необходимыми и лишь немногие из которых пригодились на войне, выпало более 600 миллиметров осадков – вдвое больше нормы.
* * *Британия уже 100 лет не вела большой континентальной войны, высшее командование давно оторвалось от реальности, и отрыв был настолько сильный, что граничил с преступлением. Этот культ дилетанта и воинствующий антиинтеллектуализм привели к тому, что военное руководство, за редким исключением, было недалеким, нетерпимым к переменам и оказалось неспособно мыслить и действовать по-новому. Военачальники, участвовавшие в 1898 году в битве при Омдурмане – колониальном сражении, в котором британцы, потеряв всего 48 человек, уничтожили из пулеметов Максима 11 тысяч суданцев и ранили еще 15 тысяч, тем не менее в 1914 году не считали пулемет подходящим для войны оружием. В марте 1916 года, после 20 месяцев боев, британский главнокомандующий Дуглас Хейг, который в 1898 году служил в Судане штабным офицером лорда Китченера – на тот момент командующего англо-египетскими войсками, пытался ограничить количество пулеметов на батальон, опасаясь, что их наличие «ослабит наступательный дух бойцов». По той же причине он выступал против введения стальных касок, которые, как было доказано, снижали травмы головы на 75 процентов. Летом 1914 года Хейг раскритиковал применение аэроплана, назвав его переоцененным устройством, и разрешил лишь в небольших количествах использовать легкие минометы, которые со временем стали самым эффективным видом оружия в окопной войне. Даже винтовка оказалась под подозрением. Главными, по мнению, Хейга, были конь и сабля.
ОПРОС, ПРОВЕДЕННЫЙ ЗА ТРИ ГОДА ДО НАЧАЛА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ, ПОКАЗАЛ, ЧТО 95 ПРОЦЕНТОВ БРИТАНСКИХ ОФИЦЕРОВ НЕ ЧИТАЛИ НИ ОДНОЙ КНИГИ ПО ВОЕННОМУ ДЕЛУ.
Они отплыли поздним вечером и вскоре присоединились к флотилии из 31 судна в сопровождении крейсера Princess Royal. На этих судах в Англию отправились первые канадские воинские подразделения вместе с почти 7 тысячами лошадей. В воскресенье, когда все на корабле собрались на молитву, именно Вейкфилда выбрали читать ее.
«Необходимо усвоить следующее, – говорится в учебном пособии для кавалерии 1907 года, – винтовка, как бы ни была действенна, не может заменить эффект, который дает скорость лошади, стремительность атаки и ужас от вида холодной стали».
На протяжении всей войны Хейг держал в резерве три полные кавалерийские дивизии численностью 50 тысяч человек, готовых в любое время воспользоваться прорывом на фронте, которого, однако, так и не произошло. В 1926 году, когда нация оплакивала гибель почти миллиона человек, Хейг писал о грядущих войнах: «Я считаю, что ценность лошади и ее возможности, скорее всего, будут так же востребованы, как и прежде. Аэропланы и танки – лишь вспомогательные средства для кавалериста, и я уверен, что в будущем породистая лошадь будет так же необходима». Но те, кто непосредственно воевал, знали лучше. Один из ветеранов как-то обмолвился о кавалерийском резерве: «С таким же успехом их можно было посадить на чертовых карусельных лошадок, может, было бы больше пользы».
Ничего этого бойцы Ньюфаундлендского полка, усердно тренировавшиеся на Солсберийской равнине, разумеется, не знали. Их учили, что члены сплоченного отряда, готовые к умеренным потерям, «обладающие отвагой, решимостью и упорством преследователя», могут легко захватить пулеметную позицию. Важнейшим условием успеха, отмечалось в официальном учебном пособии 1909 года, является сохранение бойцами на протяжении всей атаки «спортивного духа, присущего каждому представителю британской нации». Во время атаки нужно кричать как можно сильнее, «чтобы громкими звуками действовать на нервы неприятеля». «Основное оружие – штык, который должен быть направлен в горло противника, так как острие легко входит на несколько сантиметров и наносит смертельную рану, а если противник видит штык перед глазами, это заставляет его отступать. Другими уязвимыми и незащищенными частями являются лицо, грудь, нижняя часть живота и бедер, а также область почек, если враг стоит спиной. Проникновения на глубину от 10 до 15 сантиметров достаточно, чтобы обезвредить противника и быстро отступить. Если же штык вогнать глубоко, часто вытащить его невозможно. В таких случаях следует выстрелить, чтобы разрушить препятствие». На практике в Первую мировую штыковые ранения составляли лишь сотые доли одного процента потерь. Треть убитых и раненых приходилась на пулеметный и винтовочный огонь, остальные две трети – на снаряды и бомбы. Большинство жертв войны беспомощно ожидали своей участи, цепляясь за грязные стены окопов, когда с неба обрушивался шквал раскаленного металла.
Вейкфилд, ставший военным медиком, строго следил за порядком в лагере и настаивал на том, что чистота и порядок – обязательное условие хорошего здоровья и сильного морального духа. За глаза его называли Мусорщиком из-за одержимости чистотой. Каждое утро подчиненные содрогались, глядя, как Вейкфилд вне зависимости от времени года выливал на себя несколько ведер холодной воды. Будучи ветераном другой, почти позабытой войны и уже в возрасте – многим солдатам он годился в отцы, Вейкфилд проявлял большую заинтересованность в их здоровье. Однако 17 августа 1915 года он отправил срочный запрос о переводе его в Медицинскую службу Королевских сухопутных войск.
Причины ухода Вейкфилда из полка неясны, но, безусловно, не страх перед передовой заставил его принять решение, поскольку уже через неделю он был прикомандирован к 29-му полевому лазарету, который участвовал в самых тяжелых боях во Франции. Вейкфилд стал работать в лазарете, когда британцы только начинали осознавать масштабы потерь и медицинских проблем.
В первые месяцы войны количество убитых и раненых было невероятным, люди получали травмы и ранения невиданной ранее тяжести, а осложнения не поддавались классификации. Тем не менее медики пытались сделать хоть что-то. Поначалу раненые, принесенные с поля боя, лежали на носилках на голом полу или на земле, но в их ранах быстро поселялись непонятные патогены из богатых органикой почв Фландрии. Стерильные пески Южной Африки быстро стали для армейских хирургов лишь приятным воспоминанием. Теперь им приходилось иметь дело с газовой гангреной и чудовищными инфекциями, а вонь от таких ран проникала всюду и вызывала рвоту даже у самых стойких и видавших виды медсестер.
Ампутации и радикальная хирургия стали нормой, поскольку врачи старались опередить распространение инфекции. Об антибиотиках тогда, конечно, никто не слышал, и доктора почти ничего не знали о микробной теории инфекций. Рентгеновская технология тоже была еще слишком примитивной, и поиск железа в теле раненого, изрешеченном шрапнелью, представлял серьезную проблему. Британские мобильные станции переливания крови стали прорывом в ходе войны, и близкий друг Мэллори Джеффри Кейнс сыграл в этом большую роль, но во время первых таких попыток тысячи человек просто истекли кровью. Вейкфилд и его коллега по Эвересту Говард Сомервелл, были, по сути, следующим поколением врачей после старомодных докторов-ортодоксов, которые большинство болезней лечили пиявками, тиф – слабительным из ревеня, а сифилис – комарами[7].
Первостепенной задачей являлась эвакуация раненых с линии фронта. Кто мог идти или ползти, добирались самостоятельно до полевого медпункта, обычно расположенного неподалеку от поля боя или во второй линии окопов. В медпункте санитар сортировал раненых, маркируя лоб каждого несмываемыми чернилами с указанием подразделения и характера ранения, чтобы врачи могли отличить тех, кто может выжить, от тех, кто наверняка умрет; затем вводил обезболивающее, при необходимости отрезал остатки конечностей, которые невозможно было спасти, часто с помощью обычного ножа, и перевязывал раны. Тем же, кто остался на поле боя и был не в состоянии двигаться, приходилось ждать наступления темноты в надежде на санитаров. В основном такие раненые солдаты были обречены, поскольку в каждом батальоне из тысячи человек имелось 32 санитара – всего 16 команд, соответственно, эвакуация всех раненых в битве являлась непосильной задачей. Санитары постоянно подвергались смертельной опасности. Пробираясь во тьме по грязи и через заваленные трупами окопы, спотыкаясь о разложившуюся плоть лошадей и людей, убитых в предыдущих боях, они несли раненого зачастую час и более до медпункта или до дороги, откуда пострадавшего могли доставить на санитарной машине до ближайшего полевого лазарета – ключевого звена в логистической цепи спасения.
Полевые лазареты находились вне непосредственной зоны обстрела, но как можно ближе к линии фронта и функционировали одновременно как госпиталь и как распределительный центр. Здесь медицинские бригады – как правило, восемь хирургов, работавших круглосуточно, по два человека в шестичасовую смену, отделяли тех, кто мог быть немедленно эвакуирован по железной дороге в стационарные госпитали, от тех, чьи ранения требовали срочной операции. В третью группу попадали безнадежные. Таких бойцов помечали красным и помещали в палаты для умирающих, где их успокаивали, обмывали и утешали медсестры, делавшие все возможное, чтобы отвлечь парней от мыслей о неизбежном. А наутро похоронщики зашивали изуродованные останки в одеяла или рогожу и увозили их, чтобы закопать в братских могилах, на которых через много лет аккуратными рядами установят кресты, создав иллюзию нормальности для живых.
Нагрузка на медиков в лазаретах была огромной. Они делали все возможное, чтобы сохранить рассудок и поддерживать хорошее настроение, однако приходилось иметь дело с нескончаемым потоком живого мяса – итогом очередного боя, работать по ночам, под грохот орудий, в неровном свете осветительных ракет и вспышек от разрывов, выхватывавших из тьмы призрачные силуэты в хаки и окровавленных одеялах. А мерцающие ацетиленовые фонари давали так мало света, что едва получалось определить характер ранений у вновь прибывающих пациентов.
Врачи в заскорузлых от крови халатах в тошнотворной смеси запахов сепсиса, сгоревшего пороха и экскрементов, наполнявших операционные, резали, кромсали, пилили и прижигали такие раны, которые никогда не видели в обычной жизни. Пулеметные пули, летящие со скоростью более 3,5 тысячи километров в час, могли раздробить толстое дерево или отрезать ноги человеку. Наибольший урон наносила шрапнель – зазубренные раскаленные осколки стали загоняли в раны обломки, куски обмундирования и плоти трупов на поле боя. Взрывы снарядов разрушали внутренние органы так, что люди без внешних повреждений лежали мертвые рядом с теми, чьи тела были изуродованы до неузнаваемости.
Травмы лица были самыми тяжелыми: юноши с безгубыми ртами, кровавыми дырками вместо ноздрей, копной светлых волос, выросших на сожженной коже головы… Пластическая хирургия – детище войны. Она возникла из необходимости восстановить, насколько возможно, лица, искалеченные столь сильно, что до конца своих дней эти люди жили под масками и собирались в специальных лагерях в сельской местности, где могли ощутить ветер и солнце на своих горгульих чертах, не боясь насмешек или жалости. В дополнение к 108 миллионам бинтов и повязок Медслужбе сухопутных войск Великобритании к концу войны потребовалось более 22 тысяч искусственных глаз.
В ответ на нечеловеческое напряжение, посреди вакханалии безумия хирурги пытались уйти в собственный внутренний мир. Некоторые просто отключались от войны и сосредоточивались исключительно на долге, будто все, что находилось за пределами света мерцающих ламп и вне досягаемости скальпелей, не имело смысла и не было реальным. Однажды ночью уже в конце войны друг Мэллори Джеффри Кейнс оперировал в подземелье цитадели в Дуллане молодого солдата, гениталии которого изуродовало осколком снаряда. Когда он на мгновение остановился, чтобы вытереть пот со лба, то увидел короля Георга V, который стоял подле него и наблюдал за операцией. Не промолвив ни слова, Кейнс вернулся к работе, полностью игнорируя своего государя.
* * *Говард Сомервелл, один из близких друзей Мэллори на Эвересте, на войне служил в 34-м полевом лазарете в Векмоне между Амьеном и Альбером в битве на Сомме[8]. Как и Вейкфилд, Сомервелл был верующим юношей из Озерного края. Он родился в 1890 году в городе Кендале, графство Вестморленд, в пресвитерианской семье, владевшей процветающей компанией по производству сапог. Сомервелл рос в мире природы, музыки и искусства, был физически крепок, склонен к творчеству. В юности он, не задумываясь, проехал на велосипеде из Рая, Восточный Сассекс, в Лондон, чтобы послушать в Квинс-холле произведения Бетховена, Шопена и Шумана. Путь туда-обратно составил около 240 километров.
После окончания школы Регби Сомервелл получил возможность учиться в колледже Киз, одном из самых старых и престижных в Кембридже, где почти сразу стал заигрывать с атеизмом – вступил в общество «Еретики». «Здесь все мои религиозные убеждения разнесли в пух и прах, так что в течение двух лет я упорно отказывался верить в Бога», – вспоминал он. Однако в конце второго года обучения Сомервелл случайно попал на молитву в местной церкви в Кембридже, пережил откровение и стал ярым и страстным евангелистом. «Прошло совсем немного времени, – отмечал он, – и я с дрожью в коленях и сильно бьющимся сердцем уже проповедовал на открытых собраниях, проходивших на площади, где обычно для жителей Кембриджа устраивали ярмарки». Повзрослев, Сомервелл пришел к заключению, что этот период жизни представлял собой «посев своего рода духовного дикого овса, что стало заменой увлечению противоположным полом и естественным выплеском юношеской энергии, перенаправленной в духовное русло». Поздне´е религиозное рвение уменьшилось, тем не менее он оставался человеком глубоко верующим, убежденным в силе молитвы.
В начале войны Сомервелл, будучи студентом-медиком, испытывал искушение сразу же пойти на фронт, но прислушался к мудрому совету своего наставника, сэра Фредерика Тревеса, который понимал, что потребность в хирургах будет только расти. Сомервелл продолжил обучение в Королевской коллегии хирургов Англии. В 1915 году он закончил учебу в звании капитана и поступил в Медслужбу сухопутных войск. Его медицинские записи, одни из немногих уцелевших во время Большого Блица[9], рассказывают о каждой операции, которые он проводил в Первую мировую. Например, 18 августа 1915 года к Сомервеллу поступил младший капрал Дикенсон из 1-го Линкольнского полка. Этот крепкий парень 20 с небольшим лет получил множественные ранения глаз, лица, рук, плеч, груди и брюшины. Сомервеллу пришлось удалить раненому правый глаз и ампутировать несколько пальцев.
Выборка из записей показывает, что в следующие два дня Сомервелл лечил ранение в плечо, затем ранение левой руки, после чего отправился в палату к рядовому Гриффитсу из 2-го Королевского Уэльского полка фузилёров, которому требовалась «ампутация из-за раздробленного коленного сустава». Затем Сомервелл занялся огнестрельным ранением в голову рядового Рида из 6-го Дорсетского полка, а после ампутировал левую ногу младшему капралу Торнтону из 10-го Западного йоркского полка.