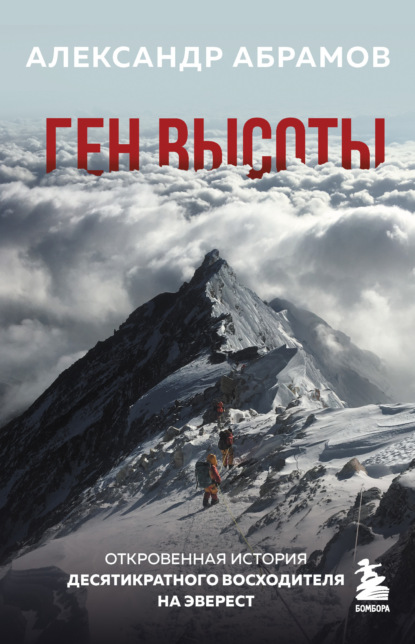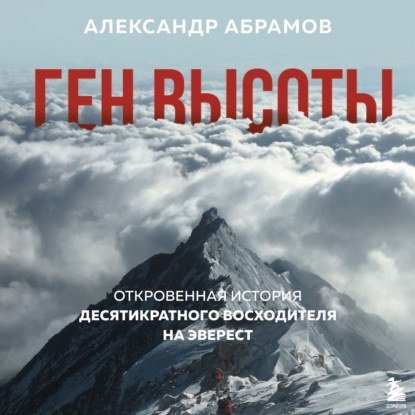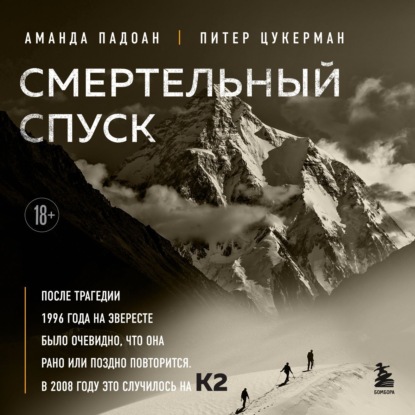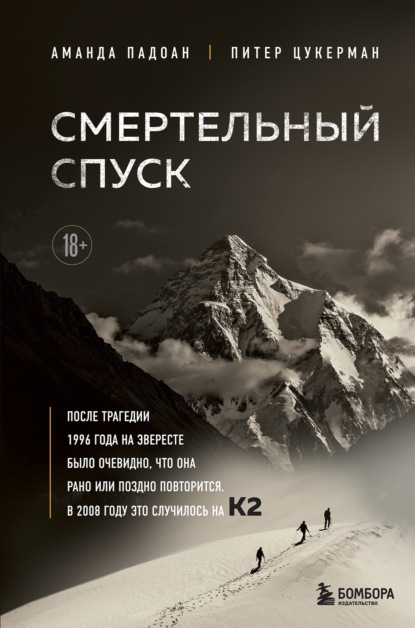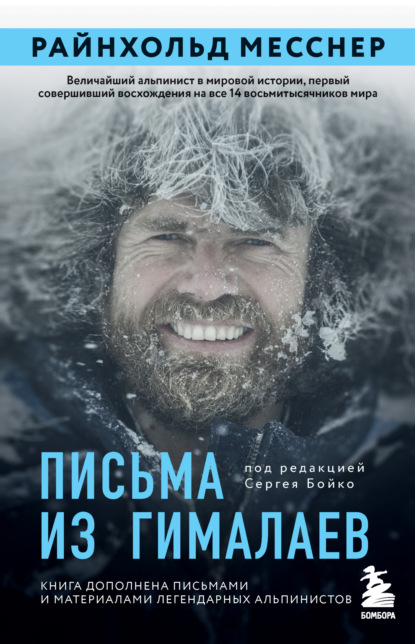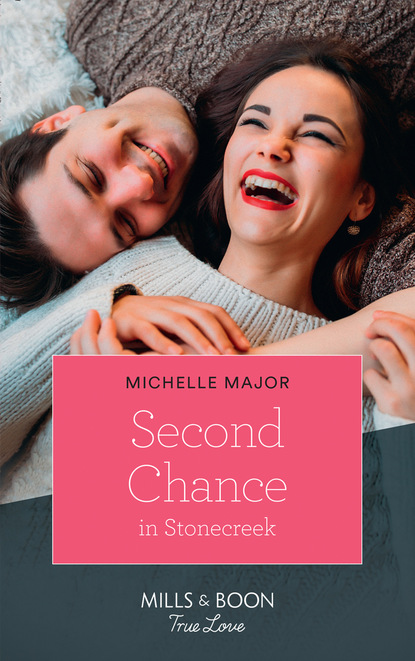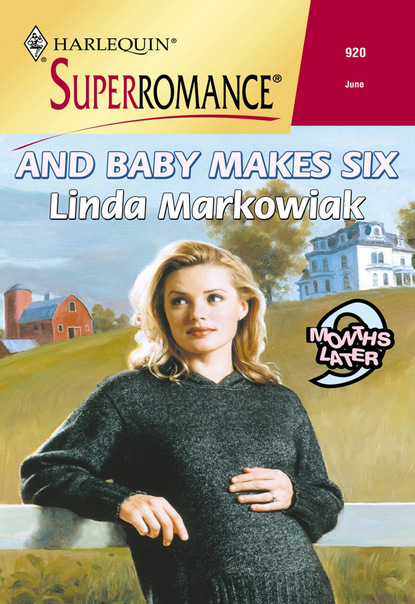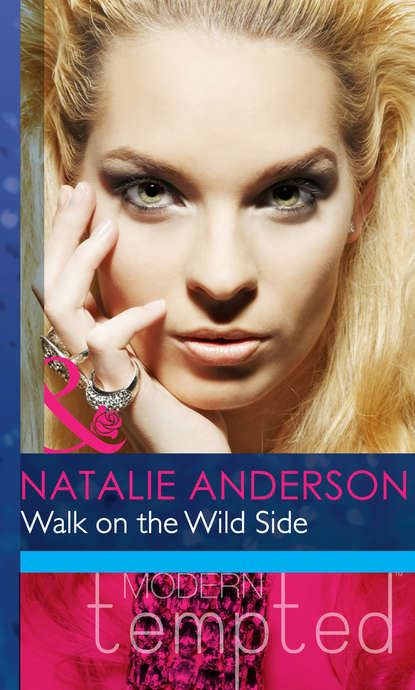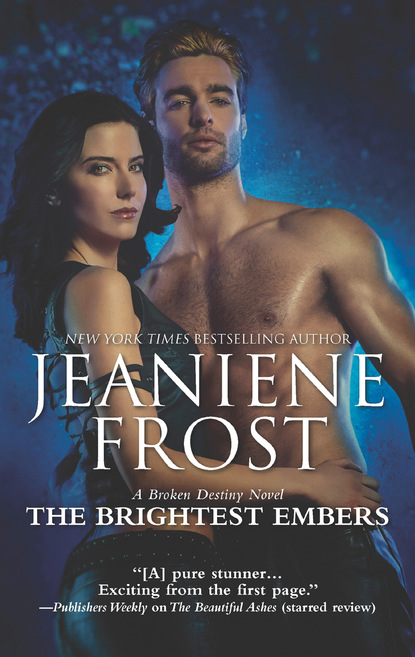В тишине Эвереста. Гонка за высочайшую вершину мира
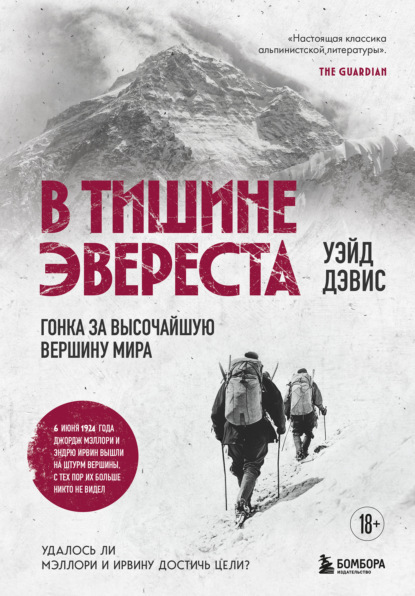
- -
- 100%
- +
На следующее утро эта «рутина» продолжилась. В записях значатся рядовой Рассел из 7-го Линкского полка с раздробленной левой рукой, затем рядовой Смит из 10-го Западного йоркского полка с перебитыми взрывом снаряда бедрами, затем Сомервелл удалил осколки кости из легких младшего офицера 1-го Линкольнского полка, после чего обработал еще несколько ран, а затем бросился в палату № 5, чтобы сделать хоть что-то для спасения рядового Филтона из 15-го Уэльского полка, у которого в результате огнестрельного ранения оказались сломаны обе челюсти и перебиты лицевые артерии. Далее на очереди был рядовой Ганн из 10-го Западного йоркского полка с запущенной раной правой ягодицы. Затем Сомервелл перешел в 9-ю палату, чтобы обработать огромную рану груди и раздробленные ребра рядового Манна также из 1-го Линкольнского полка. Оттуда он отправился к другому рядовому с огнестрельным ранением в спину – пуля раздробила лопатку и третье ребро. Наконец, Сомервелл возвращается в 5-е отделение, чтобы заняться ранением левой ягодицы рядового Ричардса. Двенадцать серьезных операций за два дня, в том числе две ампутации, тяжелое ранение лица, раздробленные кости и так далее. Все мыслимые и немыслимые травмы, и это всего за 48 часов начала карьеры военного врача. Карьеры, которая в таком темпе и с такой нагрузкой продлится почти четыре года.
По всей видимости, Сомервелл смог не лишиться рассудка, так как начал смотреть на происходящее как бы со стороны – исключительно с профессиональной точки зрения. Он просто стал хирургическим механизмом, который к своим 28 годам имел дело почти со всеми возможными травмами и ранениями. В свободные от работы минуты Совервелл рисовал, более всего, как он позже напишет, его «привлекала природа, а сердце радовало даже самое малое живое существо». Он по-прежнему верил в Бога, но теперь по-новому понимал и чувствовал хрупкость человеческой натуры. Во время дежурства он заходил в госпиталь или палатку-лазарет и видел там десятки тел умерших или груды ампутированных ног и рук. Ночью из палат слышались стоны и проклятия раненых – мальчишек, мечущихся в бреду и кричавших «Заряжай!» во всю силу своих легких. Обычно к утру, когда вставало солнце и бабочки садились на обгоревшие коряги и выжженную траву, неиссякаемый поток умирающих и искалеченных спадал. В свободное время Сомервелл вместе с сослуживцами отъезжал далеко от линии фронта и устраивал пикники в дубовых и кленовых рощах. Здесь, вне пределов досягаемости снарядов, пели жаворонки и малиновки, а ужас, тревогу и боль можно было ненадолго забыть. Так война превратилась в дурной сон, в инверсию реальности.
Артур Вейкфилд находился у линии фронта на Сомме с конца 1915 года. За несколько недель до начала битвы он был прикомандирован к 29-му полевому лазарету в городке Жезенкур к юго-западу от Дуллана и менее чем в дне пути от места, где работал Сомервелл. Суровая простота дневниковых записей Вейкфилда отражает ценности и мировоззрение поколения мужчин, которые не особо вдавались в размышления и не занимались анализом своих эмоций. Он описывает распорядок дня: пробежка по пересеченной местности ранним утром, горячая ванна и завтрак. Затем следует обход, потом начинается неизбежный «парад» больных. Обрабатывая раны, Вейкфилд по мере сил следит за отправлением религиозных обрядов, посредством которых на фронте пытались придать хоть какую-то нормальность бесконечным похоронным процессиям. Вечером он читает и пишет письма, а за ужином беседует и обменивается новостями в столовой. Как и Сомервелл, Вейкфилд по возможности уезжает подальше от передовой в поисках красок жизни вместо безнадежности и мрачности фронта. Он сажает сад, ставит силки на кроликов, наслаждается полевыми цветами французской весны, но фоном постоянно идут звуки далекой и не очень канонады. Ежедневно Вейкфилд заполняет одну страницу дневника, каждая запись завершается описанием погоды.
О своей работе и раненых он упоминает мало, и только официальные военные записи 29-го полевого лазарета раскрывают масштабы потерь – от 50 до 100 человек в день, и это ранней весной 1916 года, когда на фронте было сравнительно тихо. Постоянную гибель людей, которую высшее командование, сидевшее в своих замках далеко от фронта, обозначало как «сопутствующие потери», можно относительно нормально воспринимать только в контексте войны, которая продолжалась четыре года и четыре месяца. В эти тихие дни только в британской армии в среднем погибали около 600 человек в день, еще 1700 получали ранения.
4 апреля в дневнике Вейкфилда появилась запись о прибытии 29-й дивизии, в составе которой, к его удивлению и восторгу, были бойцы Ньюфаундлендского полка. Он не видел своих парней с Лабрадора почти год: он остался во Франции, а полк отправили в Египет, а затем перебросили для участия в Дарданелльской операции. Вейкфилд знал из сводок, что парни высадились в бухте Сувла и около полугода провели на чужбине, где свирепствовали холера, дизентерия, тиф и траншейная стопа[10], пока наконец уцелевших не эвакуировали из района Дарданелл в первые дни 1916 года. И 22 марта они прибыли в Марсель. По удивительному совпадению лазарет Вейкфилда располагался на том же участке фронта, где сражались его земляки. С чувством гордости Вейкфилд стоял на обочине дороги в Жезенкуре и высматривал знакомые лица. Зрелище было впечатляющее: 12 тысяч человек, 6 тысяч лошадей, тяжелая и легкая артиллерия, повозки с припасами, санитарные машины и полевые кухни растянулись на 25 километров. Весь день шел холодный дождь, и подразделениям потребовалось пять часов только на то, чтобы пройти через город. «В местечке атмосфера ожидания, ходят разные слухи, – записал Вейкфилд в дневнике в тот вечер. – Отпуска отменены, а те, кто успел уехать отдыхать, отозваны обратно».
Во вторник, 16 мая, Вейкфилд смог оторваться от работы и на велосипеде проехал через Бокен и Марьё, чтобы посетить полк, расквартированный в городе Луванкур. Позже он напишет, что великолепно провел время: обед со старшими по званию, осмотр штаба батальона, где удалось пообщаться с младшими офицерами и поболтать с новобранцами. После чаепития в штабе в шесть вечера Вейкфилд отправился назад и добрался до своего лазарета за час – получилась «совершенно замечательная поездка» в безоблачную погоду при легком южном ветре. Он не подозревал, что больше никогда не увидит этих людей. Месяц спустя все дороги в окрестностях были забиты оружием и боеприпасами. 21 июня Вейкфилд записал: «Все готово к приему большого количества пациентов в результате наступления. Настроение у всех приподнятое. Ветер юго-западный, умеренный, хорошо и солнечно. Потеплело».
* * *Атака на Сомме планировалась шесть месяцев. После всех провалов 1915 года, неудачной попытки прорыва у Нев-Шапель в марте, разочарования у Дарданелл, самоотверженного сопротивления канадцев при Ипре в апреле, краха в битве за хребет Обер и сентябрьской катастрофы, названной немецкими историками «Поле трупов в Лоосе»[11], британцы возлагали надежды на одно большое наступление, которое должно прорвать немецкую оборону, превратить позиционную войну в наступательную, тем самым облегчив положение французских войск и в целом избавив людей от мучений в окопах. Слово «наступление» звучало как обещание для полумиллионной так называемой Четвертой армии. Все было готово к атаке.
В условиях, когда исход войны и судьба империи, можно сказать, стояли на карте, ничего нельзя было оставлять на волю случая. Боевые приказы для битвы на Марне в 1914 году – масштабном сражении, которое спасло Францию, – были изложены в шести абзацах. Для Соммы британский генеральный штаб в составе примерно 300 офицеров, работавших под командованием Хейга в его роскошном замке далеко за линией фронта – в Монтрёе, разработал огромный документ. На 57 страницах скрупулезно, до мелочей, были расписаны сроки, учтена каждая деталь, прописаны все действия, предвиден каждый поворот событий. Британская армия с 1914 года выросла с 4 до 58 дивизий. На Сомме британцы должны были превосходить немцев по численности в семь раз. Для предварительной бомбардировки Хейг хотел пустить в ход около 3 миллионов снарядов. За неделю планировалось выпустить больше снарядов, чем британцы до сих пор использовали с начала войны, – около 20 тысяч тонн стали обрушатся на немецкие линии. Затем войска пойдут в атаку: 13 дивизий, 66 тысяч человек в первой волне наступления поднимутся из окопов по всей линии фронта протяженностью 22,5 километра. Победа была гарантирована, хотя, как предупреждалось в штабном документе, «требуется быть готовым и к потерям». На бумаге это был мастерский план, который обязательно увенчается успехом. Однако историки считают, что именно он привел к колоссальным потерям.
Генералы не доверяли своим солдатам и считали их неспособными контролировать ситуацию на поле боя. В этой войне все силы промышленности были брошены на увеличение огневой мощи армии, однако коммуникации оставались на совершенно примитивном уровне. Радио только начинали применять, а телефонные кабели редко выдерживали бомбардировку. Поэтому, когда артиллерийский заградительный огонь стих и бойцы пошли в наступление, они буквально оказались предоставлены сами себе. Связь с командованием ограничивалась лишь сигналами и сигнальными ракетами, а также сообщениями, наспех нацарапанными карандашом на клочках бумаги и переданными курьерами или с почтовыми голубями. План по идентификации подразделений с воздуха посредством пришивания к военной форме ромбовидных кусочков светоотражающей жести провалился полностью и привел к тому, что отдельные солдаты стали хорошими мишенями. Приказ из штаба в подразделение на передовой мог идти до шести часов. Зачастую такие депеши были полностью оторваны от реальности и приносили больше вреда, чем пользы. Их по возможности игнорировали, если, конечно, они не содержали спасительного приказа об отходе.
Для Хейга и генерального штаба самой большой неопределенностью являлось качество войск. Регулярная армия, солдаты, с которыми эти генералы получили славу в Южной Африке и Судане, на Северо-западной границе Индии и на многих других окраинах империи от Гибралтара до Барбадоса, лежали мертвые в грязи Фландрии. Из бойцов, спешно набранных из различных местных ополчений, добровольцев и йоменов, к концу 1914 года сформировали 14 пехотных дивизий и 14 кавалерийских бригад. Изначально этих людей отправили за границу, чтобы высвободить регулярные войска для войны во Франции, но в итоге почти все новобранцы тоже оказались в окопах. Смерть стала настолько обыденным явлением, что физические критерии для принятия на службу менялись ежемесячно. Например, в начале войны рост военнослужащего должен был составлять не менее 1 метра 72 сантиметров, но уже к ноябрю 1914 года в армию охотно брали мужчин ростом 1 метр 60 сантиметров.
Фельдмаршал лорд Китченер, военный министр, оказался единственным среди британских лидеров, кто с самого начала предвидел долгую, тяжелейшую войну промышленностей, которая поглотит все богатства сторон. Он мало верил в территориальные воинские подразделения, называя их «армией городских клерков», и постарался сформировать из 2 миллионов добровольцев, вставших под знамена в течение первых 18 месяцев войны, «новую армию», способную побеждать. К середине 1916 года, когда Китченер погиб – крейсер, на котором он отплыл в Россию на встречу высшего военного руководства союзников, подорвался на мине, – его армия была готова – самая большая за всю историю страны и лучше всего оснащенная. Основой ее стали новобранцы 1914 года, обычные юноши и мужчины из городов и весей, набранные из всех гильдий, клубов и добровольных гражданских объединений и обществ. Из 143 батальонов, отправленных в битву на Сомме, 97 представляли эту самую новую армию. Многие молодые люди записывались на службу вместе, привлеченные обещанием Китченера, что смогут сражаться в одном подразделении. Их объединяли почти мистический патриотизм, чувство долга и чести, которые сегодня трудно вообразить. Эти мужчины действительно были цветом британской нации.
Но главнокомандующий Дуглас Хейг сомневался. Ни один из солдат Китченера не прошел испытание боем, а они должны были противостоять немецкой армии, находящейся на пике своей мощи. Офицеры «новой армии» были молодыми и неопытными либо набирались из числа, как выразился Хейг, «профессиональных любителей» – отставных командиров Индийской армии и пенсионеров. В 1916 году почти любой британский джентльмен теоретически мог приобрести патент, но это не гарантировало, что он будет знать, как воевать[12]. Уцелевших ветеранов старой, довоенной армии рассредоточили по атакующим подразделениям, но ни в одном батальоне, отправленном на Сомму, не набралось и четверти состава военнослужащих регулярной армии. Из одиннадцати дивизий Четвертой армии, вступивших в сражение, шесть никогда не участвовали в боях.
Хейг относился к сражению в целом как к сложным учениям, военному параду под реальным огнем. В приказах Четвертой армии это требование было четко сформулировано: «Солдатам надлежит подчиняться инстинктивно, не задумываясь. Продвижение вперед должно осуществляться, как на учениях». То есть, согласно требованию командующего, британские войска не должны были предпринимать никаких попыток застать врага врасплох. После предварительной бомбардировки, беспрецедентной по масштабам и разрушительной силе, армия в соответствии с планом будет наступать ровными рядами. Два батальона, по тысяче человек в каждом, выберутся из окопов и траншей по лестницам, сформировав четыре линии. Линии пойдут друг за другом на расстоянии 20 метров, расстояние между бойцами в цепи не должно превышать 2 метра. Каждый солдат должен нести, помимо винтовки со штыком, 30 килограммов снаряжения, в частности кусачки, чтобы перерезать проволочные заграждения, 220 патронов, котелок и ложку, пустые мешки для грунта, необходимые для создания фортификационных укреплений, сигнальные ракеты, саперную лопатку, индивидуальную аптечку, 2 противогаза и 2 гранаты. Очевидно, что при такой нагрузке ряды атакующих сформируются небыстро, поэтому порядок будут поддерживать офицеры при помощи тростей – стеков, сделанных из полированного терновника (для ирландских полков), ротанга и ясеня (для всех остальных). В бою эти стеки оказались так же полезны, как дирижерская палочка. Обязанностью командного состава было руководить, а не убивать, поэтому из оружия у офицеров имелись только табельные револьверы. Чтобы гарантировать дисциплину и порядок, Хейг приказал осуществлять наступление нарочито неспешным маршем. Расстояние между параллельными линиями солдат варьировалось по всему фронту и местами достигало 2,5 километра. Но командование не беспокоилось по этому поводу, так как артобстрел гарантировал, что вражеские проволочные заграждения будут уничтожены и ни один немец не выживет.
В воскресенье, 25 июня, в дневнике Вейкфилда появилась единственная короткая запись: «Вчера вечером началось большое наступление. Мы почти ничего не слышали, но поздно вечером в небе беспрестанно виднелись вспышки от стрельбы из орудий. Несильный западный ветер. Прекрасная погода, лишь несколько раз шел дождь. Жарко».
В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ СЕМИ СУТОК НА НЕМЦЕВ БЕСПРЕРЫВНО ЛИЛСЯ С НЕБА СТАЛЬНОЙ ДОЖДЬ. ВОЗДУХ НАД ЛОНДОНОМ ПУЛЬСИРОВАЛ ОТ КАНОНАДЫ, ЕЕ ТАКЖЕ БЫЛО СЛЫШНО ПО ВСЕМУ ЮГУ АНГЛИИ. НА ФРОНТЕ СОЛДАТЫ НЕ МОГЛИ МАРШИРОВАТЬ – ТАК СИЛЬНО ДРОЖАЛА ПОД НОГАМИ ЗЕМЛЯ. ОДИН КАНАДСКИЙ РЯДОВОЙ ПИСАЛ: «ВСЕ ТЕЛО СОТРЯСАЛОСЬ В БЕЗУМНОЙ ПЛЯСКЕ СМЕРТИ… КАЗАЛОСЬ, МОЖНО ПОДНЯТЬ РУКУ И ДОТРОНУТЬСЯ ДО ЗВУКА – ОН СТАЛ ОСЯЗАЕМ».
Начавшись, бомбардировка сразу перешла в крещендо, и ураган несмолкающего грохота понесся над всей линией фронта. Ничего подобного не было в истории войн. Наполеон в битве при Ватерлоо выпустил 20 тысяч снарядов, у англичан на Сомме было более 1,5 тысячи батарей, каждая из них могла выпускать по тысяче снарядов в день. Сержант 22-го Манчестерского полка так описывал канонаду: «Грохот отличался не только по силе, но и по качеству от всего, что доводилось слышать до сих пор… Он был всюду. Казалось, пространство заполнено огромной агонизирующей страстью – то стонами и вздохами, то пронзительными криками и жалобным воем. Все вибрирует, словно от мрачной пульсации огромных крыльев, а земля содрогается под страшными ударами, раздираемая неземными кнутами. Это сверхъестественное буйство не имеет направления, начала или конца. Оно висит в воздухе – недвижная звуковая панорама – и кажется природным катаклизмом, а не делом рук человека».
Опытные бойцы жалели врага, ведь они на собственной шкуре знали, что такое ожидание атаки под артобстрелом. Лежать в окопе в разгар бомбардировки, по воспоминаниям одного солдата, это все равно что оказаться привязанным к железному столбу и подвергнуться нападению врага с кувалдой. Вот следует замах, и кувалда летит вперед, «но не попадает по голове, а со страшной силой врезается рядом в столб; и тебя засыпает осколками, и дрожь от удара передается всему телу». В постоянном грохоте взрывов кровь приливает к голове, жар сжигает тело, нервы, натянутые до предела, не выдерживают. Люди теряют контроль над собой, начинают стонать и плакать, а их глаза проваливаются глубоко в глазницы, чтобы никогда более не узреть света.
Канонада наполнила британцев надеждой. Однако им не суждено было сбыться. Хейг выбрал Сомму для наступления отчасти потому, что местность позволяла войскам избежать заросших дерном полей и жидкой грязи Фландрии и сулила возможность прорыва. Но условия Пикардии, привлекшие его внимание, были на руку и немцам, которые буквально вгрызались в землю, устраивая блиндажи и укрытия в меловой почве на глубину до 20 метров, вне пределов досягаемости даже небольшого количества тяжелых гаубиц, задействованных британцами. Имелась и другая проблема: подавляющее большинство британских орудий стреляли шрапнелью, которая очень эффективна против пехоты, но она не уничтожала проволочные заграждения и уж точно не пробивала землю. Более того, треть снарядов оказались болванками. Британцы не предполагали, что немцы, безусловно ошеломленные массированным обстрелом, страдающие от кровотечений из ушей и носа и дрожащие от страха смерти, тем не менее не собирались сдаваться. Немецкие войска сидели глубоко под землей в ожидании наступления.
У германского командования было два года на подготовку обороны, а Хейг был не из тех, кто действует инстинктивно или под влиянием импульса, при этом он обладал поразительной способностью выбирать для атаки наиболее сильные места в обороне противника. Немцы создали три линии обороны на возвышенностях. Помимо этого они превратили равнинные сельскохозяйственные угодья в заросли колючей проволоки, за которыми в глубине на расстоянии более 3,5 километра располагались огневые точки, находящиеся далеко за пределами досягаемости британской артиллерии. Чтобы наступление удалось, британцам пришлось бы не только перейти линию фронта и резервные траншеи, но еще прорваться через ряд серьезных препятствий. На тридцатикилометровой линии фронта немцы сделали неприступными редутами девять деревень, названия которых навсегда войдут в анналы истории: Монтобан, Маме, Фрикур, Ла-Буассель, Овилле, Тиепваль, Бомон-Амель, Серр и Гоммекур. Каждая возвышенность стала укреплением. Было установлено более тысячи пулеметов. И атакующие оказались перед губительным выбором: штурмовать опорные пункты в лоб непосредственно под огнем или предпринять обход по флангам, подвергаясь обстрелу со всех сторон.
В отличие от британцев немцы в полной мере поняли, насколько мощное оружие пулемет. Даже самый лучший стрелок из винтовки должен выбрать цель, отключиться от отвлекающих факторов, сосредоточиться только на стрельбе, и лишь в этом случае он будет выпускать 15 пуль в минуту. Пулемет же представляет собой концентрированную сущность войны. Пулеметчики не целились и даже, по сути, не стреляли. Они просто своевременно подавали ленты с боеприпасами в механизм, следили за его охлаждением и точными движениями перемещали ствол пулемета в заданном диапазоне. Поток выпускаемых пуль был настолько плотным, что на расстоянии 1,5 километра никто не мог остаться в зоне обстрела целым. Пулемет механизировал смерть. Такое оружие, правильно откалиброванное, в считаные секунды сметало бруствер окопа. И немцы постарались, чтобы их пулеметы работали как следует.
В ночь на 30 июня 1916 года, накануне атаки, Вейкфилд писал: «Небо усеяно вспышками, но почти не слышно звуков взрывов. Один из пациентов рассказал, что мы использовали много чрезвычайно ядовитого газа – один вдох этого газа вызвал у него отравление. Утверждает, что, согласно донесению разведгруппы, немецкие окопы полны трупов. Ветер несильный, юго-западный, дождь в первой половине дня, вечером штиль, затем ясная ночь». Накануне Вейкфилд узнал другие новости от своих старых друзей, Грина и Стронга, молодых офицеров Ньюфаундлендского полка, которые были тяжело ранены при атаке на немецкие позиции. Грин лично убил шестерых врагов. Вейкфилд отметил: «Немного поболтал с ними, затем отправился на станцию и подождал, пока их не посадили в поезд. Потом совершил обход. После обеда осмотрел новых раненых и немного поработал в саду. Ветер северо-западный умеренный, облачно, но день хороший». Новых раненых поступило 135, то есть вдвое больше обычного. Это заставило Вейкфилда задуматься – он начал понимать, что вскоре последует. Конечно, он не мог знать тогда, что Грин и Стронг, так же как командир и его адъютант, будут единственными офицерами Ньюфаундлендского полка, пережившими первый день битвы на Сомме.
Днем 30 июня Дуглас Хейг верхом в сопровождении адъютантов на прекрасных скакунах с великолепными седлами и сбруей, начищенной до блеска, быстрой рысью пронесся по платановой аллее, уходящей вдаль от его штаб-квартиры в замке Монтрёй. Он не любил нарушать распорядок, и послеобеденный прием всегда становился одним из самых ярких событий дня. Хейг на любимом коне с впечатляющей свитой в безупречном костюме для верховой езды был воплощением иллюзии, что мир по-прежнему создан для джентльменов, что в нем царит порядок и что война – это праздник, парад, не утративший блеска и славы. За четыре года руководства самой большой армией, которую Британская империя выставляла на поле боя, армией, которая потеряла более 2,5 миллиона убитыми только во Франции и Бельгии, Хейг ни разу не побывал на линии фронта и ни разу не навестил раненых. Уже после войны его сын пытался дать хоть какое-то объяснение: «Страдания людей в Великую войну причиняли моему отцу огромную боль. Полагаю, он считал своим долгом воздерживаться от посещения лазаретов, потому что вид этих страданий делал больным его самого».
Накануне битвы на Сомме Хейг был убежден, что ключ к сражению – в руках Провидения и что Бог на его стороне. «Я чувствую, что каждый пункт плана, – говорил он жене, – написан с Божьей помощью. Войска в прекрасном расположении духа… Никогда еще проволочные заграждения врага не были так хорошо перерезаны, а наш артиллерийский обстрел никогда не был столь планомерным и тщательным». Боевой дух британских войск после долгих месяцев подготовки и ожидания действительно был на высоте. Но с проволокой дело обстояло куда хуже. Точнее, даже на протяжении 43 километров – непосредственной длины линии немецкого фронта – она почти везде осталась целой.
В последние часы перед атакой на немецкие укрепления обрушилось более четверти миллиона снарядов. А затем ненадолго наступила своеобразная тишина. Ошеломляющие оглушающие мгновения внезапной пустоты и ожидания, словно сама Земля получила отсрочку от смертного приговора. Время встало. Британские солдаты, столпившиеся у лестниц, ведущих из окопов наверх, в этот туманный день вдруг услышали стоны раненых во вражеских траншеях, жужжание огромного количества мух, отвратительный писк крыс и даже где-то высоко едва различимые голоса жаворонков и горлиц, которые воевавший поэт Зигфрид Сассун позже опишет как «пение, что принято звать небесным».
Пепельно-серые лица, секунда в секунду идущие часы, последний глоток бренди, последнее письмо родным, приколотое ножом к стенке окопа, вполголоса произнесенная молитва, взгляд на товарища, кривая улыбка, которая тоже наверняка станет последней. В окопах пахло страхом, потом, кровью, рвотой, дерьмом, сгоревшим порохом и разлагающейся плотью.
Ровно в 7:30 утра пронзительные свистки возвестили о начале атаки. 84 батальона, 66 тысяч человек, зажатых в траншеях неделями напролет, рванули по лестницам наверх. В тот же момент из глубины блиндажей, сложность и масштаб которых британцы не могли себе даже представить, к солнечному свету устремились уцелевшие бойцы шести немецких передовых дивизий. За минуту, которая потребовалась им, чтобы достичь брустверов, итог сражения был предрешен.
Немцы, разумеется, знали о готовящемся наступлении. В течение нескольких недель их агенты в Лондоне неоднократно слышали разговоры о «Большом ударе». Невозможно было скрыть наращивание сил в районе Соммы, строительство сотен километров путей, дорог и траншей, накапливание миллионов снарядов, концентрацию в одной точке фронта 2 тысяч орудий и десятков тысяч человек Четвертой армии генерала Генри Роулинсона. Артобстрел предвещал штурм. Хейг всегда атаковал в 7:30 утра, после того как смолкали орудия. Сделать что-то более хитроумное, например приостановить обстрел, чтобы немцы выбрались из укрытий и заняли окопы, и обрушить на их головы новую порцию снарядов, было недоступно его воображению. Более того, сообщение Роулинсона, отправленное ночью в 34-ю дивизию, немцы перехватили. Они не просто знали, что будет атака, они знали время ее начала с точностью до минуты.