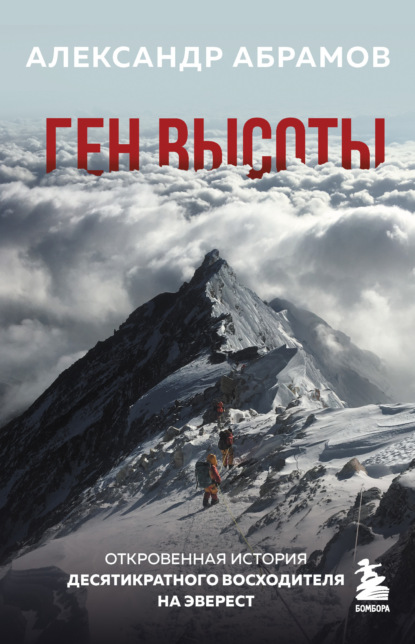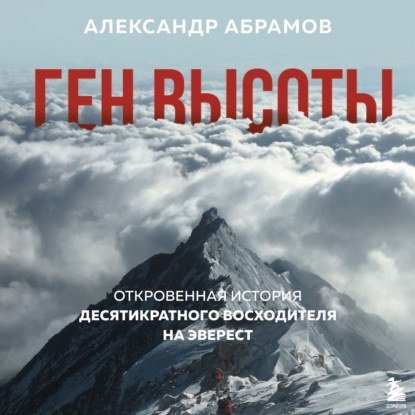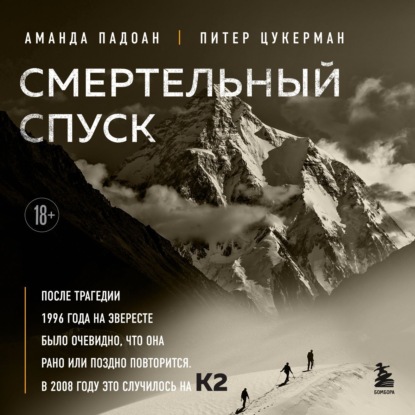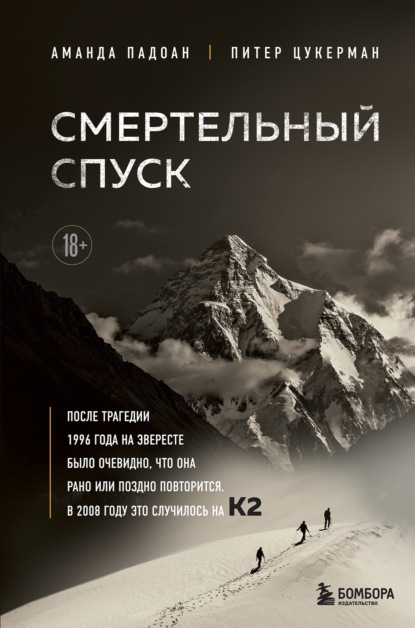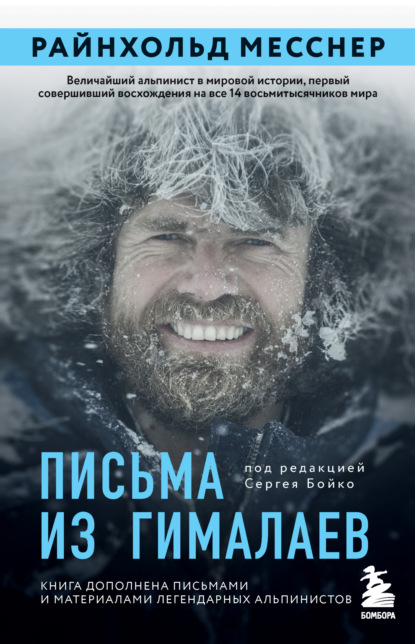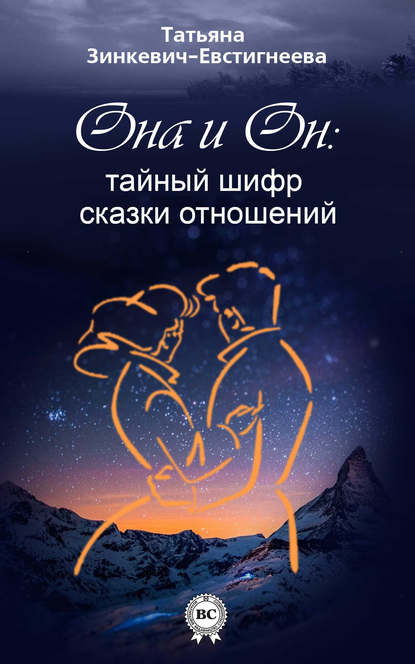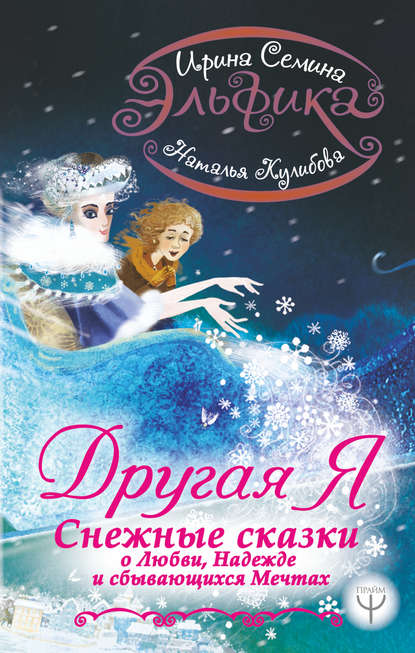В тишине Эвереста. Гонка за высочайшую вершину мира
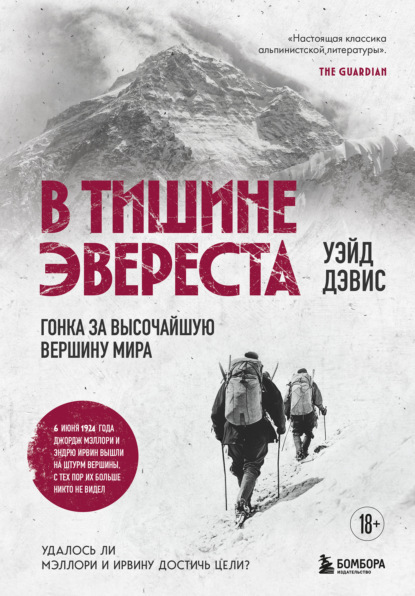
- -
- 100%
- +
Немцев поразила британская тактика. Пулеметчик 169-го полка Карл Бленк писал: «Когда англичане начали наступать, мы испугались; казалось, они одолеют нас. И мы крайне удивились, когда поняли, что они идут, а не бегут в атаку, мы никогда такого не видели. Они были повсюду – сотни, тысячи. Впереди шли офицеры. Я разглядел одного из них, он спокойно шагал, держа в руках стек. Когда мы открыли огонь, единственное, что приходилось делать, – заряжать и перезаряжать. Англичане падали тысячами. Даже целиться не требовалось, мы просто стреляли. Если бы они атаковали бегом, мы бы проиграли».
Зигфрид Сассун был свидетелем того, как бойцы выбирались из траншей, у некоторых из них поклажа превышала 40 килограммов, строились в цепи, а затем плечом к плечу с винтовками наперевес с примкнутыми штыками наклонялись и шли вперед, в бурю свинца. В 7:45 он увидел в резервном окопе солдат, которые подбадривали своих товарищей криками, словно болельщики на футбольным матче. Два часа спустя он писал: «Птицы выглядят растерянными. Жаворонок устремляется вверх, но почти сразу идет к земле, словно передумав, и как бы нехотя пролетает мимо. Другой порхает над траншеей с жалобными криками, будто ослабел на крыло». В 10:05 новая запись: «Я гляжу на освещенную солнцем картину ада, и ветерок по-прежнему качает желтые одуванчики, маки алеют вдалеке, где несколько минут назад взрывались снаряды». В 2:30 пополудни: «Я вижу, как человек двигает руками вверх-вниз, лежа на боку; вместо лица у него темно-красное пятно».
Из батальонов первой волны 20 были полностью уничтожены на нейтральной полосе. В течение первого часа, возможно, первых минут атаки, погибли либо были ранены более 30 тысяч человек. К концу дня в пределах видимости от немецких проволочных заграждений не осталось в живых ни одного британского солдата. Британцы не смогли взять ни одной деревни, не достигли ни одной из поставленных целей. Пулеметы косили людей, как траву. Те немногие, кто достиг немецких укреплений, подорвались на минах либо были изрешечены пулями и сожжены из огнеметов. Тела их повисли на проволоке, «как подстреленные вороны на изгороди», и оставались там, пока плоть не отпала от костей.
Это была самая большая катастрофа в истории британской армии. В тылу не хватало «канцелярской силы», просто чтобы записать погибших – перечисление 19 240 имен заняло 212 страниц журнала. Раненых было более 35 тысяч, это число удвоится к концу третьего дня сражения, которое продлится четыре месяца. Потери полков, расположенных вдоль линии фронта, составляли более трех четвертей личного состава. К концу утра 1 июля 1916 года «Новая армия» Китченера перестала существовать. Ее солдаты лежали рядами, их кители покраснели от крови. «Нас создавали два года, – писал рядовой Пирсон из батальона приятелей[13], – и уничтожили за десять минут».
В полевых лазаретах за линией фронта санитары и врачи, в том числе Говард Сомервелл и Артур Вейкфилд, ждали наплыва пациентов. 1 июля было единственным днем за всю войну, когда Вейкфилд пренебрег дневником. 2 июля он вспоминал часы ожидания: «Мы чувствовали: в воздухе что-то витает, все вокруг было наэлектризовано. Всего в нескольких километрах от нас люди гибли тысячами и, возможно, решалась судьба и войны, и империи, а мы по-прежнему ничего не слышали и не видели».
Первые раненые стали прибывать около 14:30, и поток не спадал, пока более 2 тысяч человек не скопились вокруг лазарета. «Было очень трудно игнорировать их крики и стоны, – вспоминал один из санитаров, – но мы должны были сосредоточиться на тех, кого могли спасти».
«Я работал изо всех сил, – писал Вейкфилд, – останавливаясь лишь на пару минут, чтобы съесть что-нибудь… Но мы не успевали – приток пострадавших был нескончаем… Очередной подвоз раненых был около 9:30 вечера, и я перевязывал раны до 2:30 ночи, затем, когда прибыло больше врачей и медсестер, мы стали работать посменно. Я наконец смог пойти вздремнуть в три ночи. В четыре меня подняли – привезли еще одну партию, к 5:30 мы сумели их всех принять, я снова лег и проспал до половины одиннадцатого утра. Ветер переменный, слабый, тепло, солнечно. Ночью очень холодно».
Сомервеллу в 34-м полевом лазарете в Векмоне сообщили, что в первый день сражения будет не более тысячи пациентов. Вместо этого он и еще один хирург оказались словно на кладбище страданий – сотни и сотни юношей и мужчин лежали с побелевшими лицами, холодные и неподвижные, в залитой кровью униформе и бинтах: «Никогда за всю войну мы не видели такого ужасного зрелища. Очереди санитарных машин длиной в 1,5 километра ждали разгрузки… Раненых укладывали не только в наших палатках и хозяйственных постройках. Вся территория, примыкающая к лазарету, – поле площадью около двух с половиной гектаров было сплошь покрыто носилками с ранеными и умирающими. Санитары раздавали питье и еду и перевязывали раны, какие могли. Мы, хирурги, были заняты в операционной – хижине, вмещавшей четыре стола. Закончив с очередным пациентом, мы бросали быстрые взгляды по сторонам, чтобы выбрать из тысяч лежавших немногих счастливчиков, чьи жизни или конечности успеем спасти. Это была страшная работа. До сих пор меня преследуют ждущие взгляды этих парней, они просто смотрели на нас, когда мы проходили вдоль рядов. Никто из них не произнес ни слова, разве что просили воды или облегчения боли. Ни один не потребовал спасти себя вместо лежащего рядом. Они умоляли молча, а мы быстро осматривали их, чтобы понять, кого спасать. Бойцов с ранениями в брюшину и другими травмами, требующими длительных трудных операций, мы просто оставляли умирать. Приходилось в первую очередь думать о спасении жизни путем ампутации или о сохранении конечностей посредством широкого раскрытия ран. Такие операции можно сделать за несколько минут. Вокруг нас лежал искалеченный цвет британской нации».
Всю ночь, пока грохотали орудия и вспышки от далеких разрывов неверным светом освещали поля, Сомервелл и его коллеги трудились, их руки и халаты были залиты кровью 12 тысяч раненых. В первый день битвы на Сомме только в Четвертой армии ранения получили 32 тысячи человек. Общая вместимость всех медицинских учреждений у линии фронта составляла всего 9,5 тысячи человек. А пострадавшие все прибывали и прибывали: одни на своих двоих, другие на носилках, третьи в повозках или на листах гофрированной жести, которые несли легкораненые. Вновь прибывшие лежали на земле как попало, словно небрежно сваленные дрова, вспоминал один солдат, – брошенные на произвол судьбы, корчащиеся в агонии, их некому было лечить. И все очень надеялись, что не пойдет дождь.
Из дневника Вейкфилда следует, что для осознания масштаба катастрофы потребовались не дни – недели. Лондонские газеты, попадавшие на фронт в течение суток, просто перепечатывали официальные военные сводки, которые имели мало общего с действительностью. «Сэр Дуглас Хейг телефонировал вчера вечером, – писала 3 июля газета Times, – и сообщил, что ситуация складывается благоприятная… Все идет по плану… Наблюдается хороший, даже существенный прогресс … Мы надлежащим образом осуществили первый удар, и есть все основания быть уверенным в успехе… Войска выполнили поставленные задачи, все контратаки отбиты, взято большое количество пленных». Этому сообщению вторил Observer: «Новые армии, сражаясь с непревзойденными доблестью и мужеством, превзошли наши лучшие надежды».
Daily Mail, как и многие другие газеты, описывала мертвых в цветистых выражениях, будто лживая риторика могла воскресить их: «Погибшие лежат как шли – устремленные вперед. Можно сказать, они умерли со светом ожидаемой победы в глазах». 4 июля Times объявила о полном успехе сражения, отметив, что раненые держатся «необычайно весело и стойко». Большинство ранений легкие, говорилось в отчете, а доля тяжелых травм невелика. Артиллерийский обстрел был очень эффективным, продолжала газета, хотя «были места, где траншеи и проволочные заграждения чудом уцелели; колючая проволока нанесла нашей пехоте ощутимые потери».
Эти самые ощутимые потери Артур Вейкфилд воочию наблюдал в своем полевом лазарете. Однако, когда он шел по бесконечному полю раненых, решая, кому жить, а кому нет, он так и не услышал хорошо знакомый ему говор. Ни один раненый не носил синих краг – отличительного знака Ньюфаундлендского полка, и ни на одной солдатской фуражке не было особого знака отличия – головы карибу. Казалось, полк просто исчез.
6 июля, почти через неделю после начала сражения, Вейкфилд впервые услышал рассказ очевидца о судьбе одного из своих ньюфаундлендцев. Он отправился пешком в Дуллан под проливным дождем, предусмотрительно надев плащ и резиновые сапоги, чтобы получить хоть какую-то информацию. «Киносеанс был в шесть вечера, – свидетельствует запись в дневнике, – но я не пошел. Прибыл лейтенант Бейли, рассказал о гибели капитана Даффа и о том, что его подразделение разнесло в клочья. Дафф возглавлял атаку, был ранен в руку, едва выбрался из окопа, но встал и пошел дальше. Получил новое ранение в грудь, но сумел подняться. Он добрался до немецкой траншеи с несколькими своими людьми. Дафф заранее взял много гранат, ими он убил 30 немцев, прежде чем ему взрывом оторвало голову. Ветер южный, легкий, днем дождь, вечером пасмурно, но без осадков».
Через два дня Вейкфилд обнаружил среди раненых еще одного знакомого – офицера по фамилии Саммерс, но тот был без сознания. Затем он лечил двух пациентов с газовой гангреной и узнал в одном из них парня по фамилии Гандинер: «Мы долго разговаривали, затем я написал для него письмо родным. Потом прогулялся, принял ванну перед ужином. Ветер северный, слабый, солнечно и тепло». Только 21 июля, как явствует из дневника, Вейкфилд узнал, что случилось с Ньюфаундлендским полком в первый день сражения на Сомме.
Именно это стало последней каплей – новости сломили его, тогда же стали появляться приступы ярости, которые останутся с Вейкфилдом до конца жизни. Полученная психическая травма заставила его скрываться в лесах Канады, привела к отчаянным, но безуспешным попыткам взойти на Эверест в 1922 году и к плачу на вершине Грет-Гейбл в тот самый день, когда Джордж Мэллори и Сэнди Ирвин поднимались к вершине Эвереста навстречу своей смерти. Ведь именно Вейкфилд привел на войну всех ньюфаундлендцев, которые погибли в Бомон-Амеле.
В день наступления на Сомме Ньюфаундлендский полк переподчинили 29‐й дивизии, одной из четырех дивизий 8-го корпуса, который должен был атаковать немецкие линии на пятикилометровом участке фронта на северном фланге. В центре немецкой обороны находилась крепость Бомон-Амель, откуда просматривалась долина, через которую планировали пойти в атаку британцы. Ширина нейтральной полосы здесь варьировалась от 180 метров на севере до 450 – на юге, это был открытый и полностью лишенный растительности участок местности. Поле боя, по сути, имело форму амфитеатра. С обеих сторон крепости располагались возвышенности, и на этих высотах немцы за два года построили блиндажи, бункеры и установили пулеметные гнезда, так что в зоне обстрела находился фактически каждый сантиметр долины. Из-за особенностей местности британцы пошли в бой частично вслепую, не имея возможности видеть участки немецких укреплений и определить степень ущерба от предварительного артобстрела.
За несколько недель до битвы саперы прорыли тоннели в 30 метрах от немецкой линии и заложили 18 тонн аммонала непосредственно под редутом Хоторн-Ридж, прямо напротив деревни Бомон. Вместо того чтобы активировать взрывчатку в момент атаки, британский генеральный штаб настоял на том, чтобы совершить подрыв ровно в 7:20 утра – идеальное время, чтобы предупредить немцев о предстоящем нападении.
В немецком полковом отчете отмечено следующее: «Земля вокруг побелела от меловой пыли, будто шел снег, а в склоне холма после взрыва зиял, как открытая рана, гигантский кратер около 50 метров в диаметре. Взрыв послужил сигналом к атаке пехоты, и все мы собрались и встали на нижних ступеньках блиндажей с винтовками в руках, ожидая окончания артобстрела. Через несколько минут канонада стихла, и мы бросились вверх и вышли на позиции. Впереди волна за волной британские солдаты выбирались из окопов и шли в нашу сторону шагом, их штыки блестели на солнце».
Взрыв поднял грязь и землю более чем на километр в воздух. И тут заговорили немецкие орудия. 66 артиллерийских батарей, не обнаруженные и не поврежденные, вели сильнейший огонь по британской пехоте, скопившейся в траншеях и готовой к атаке. Проходы, прорезанные в колючей проволоке для штурмующих, были слишком малочисленны и узки. Немецкие пулеметы били через каждую щель, уничтожая людей прямо на выходе из траншей, и вскоре британские проволочные заграждения стали настолько сильно завалены трупами своих же солдат, что следующим волнам пехоты приходилось перебираться через горы тел, просто чтобы попасть на нейтральную полосу. Физическое передвижение по траншеям стало невозможным. Люди корчились от боли, плакали и кричали. Безголовые тела, сожженные лица, кровь, текущая потоками, куски плоти, словно после разделки туш в мясной лавке, осколки стали в мозгах, раздробленные позвоночники – через все это приходилось пробираться, хлюпая по грязи.
В грохоте и хаосе битвы все коммуникации прервались. Ложное сообщение о славной победе привело к тому, что еще больше людей пошло на убой. В 9:15 утра Ньюфаундлендский полк получил приказ наступать. Его правый фланг оказался обнажен, потому что Эссекский полк – следующее подразделение в линии – задержался на исходной позиции из-за огромного количества погибших. Снаряды попадали в горы тел, и разлетающиеся фрагменты плоти и костей ослепляли живых. Некоторые бойцы от увиденного сходили с ума и начинали сражаться друг с другом. Солдаты любимого Вейкфилдом Ньюфаундлендского полка едва смогли выбраться из окопов, но не имели возможности пройти дальше бруствера, потому что все пространство простреливалось. Очень немногие бойцы продвигались вперед, но быстро замедлялись и падали, отягощенные поклажей, в попытке пригнуться ниже к земле, чтобы спастись от шквала свинца.
Британская артиллерия, действующая строго по плану, уже давно перенесла заградительный огонь вперед и в сторону от поля боя. Солдаты гибли на каждом метре, но полк все равно продолжал наступать. Несколько человек чудом достигли немецкой линии обороны, но полегли в грязи либо повисли на колючей проволоке, которая так и не была перерезана. Последним чувством многих этих храбрецов, задыхающихся от усталости, истекающих кровью и обезумевших от страха, был ужас оттого, что немецкая линия обороны не пострадала. Большинство укреплений не получили повреждений. Предварительная бомбежка прошла мимо. В ярости бойцы кидались к проволоке, бросая гранаты, но их крики быстро превращались в предсмертные хрипы.
Всего в то утро 810 военнослужащих Ньюфаундлендского полка сумели выбраться из окопов. Только 68 человек вышли из боя без травм и ранений. Погибли все офицеры, включая трех, которые вообще не должны были участвовать в атаке. Лишь командир и его адъютант выжили, чтобы услышать похвалу генерального штаба. «Это была великолепная демонстрация дисциплины и доблести, – сообщил один из штабных офицеров Хейга премьер-министру Ньюфаундленда, – атака не увенчалась успехом только потому, что мертвецы не могут идти дальше».
После 1 июля Хейг не мог отменить наступление на Сомме, не признав катастрофических потерь. Поэтому он просто пересмотрел цели кампании и заявил, что планировал истощение войск врага, а не прорыв. Битва на Сомме продолжалась 140 дней, ценой 600 тысяч раненых и убитых британские войска продвинулись на 10 километров и остановились в 6,5 километра от Бапума, который Хейг планировал взять в день начала атаки. Около 600 тысяч немцев также были убиты или ранены. Через четыре месяца сражений поле боя площадью в несколько десятков квадратных километров было покрыто трупами в несколько слоев. Тела вздувались, кости беспорядочно торчали из этой массы, плоть погибших была черной от падальных мух.
* * *12 октября 1916 года, когда битва на Сомме еще продолжалась, служба Вейкфилда подошла к концу: после двух лет на войне его демобилизовали и отправили домой, в Канаду. В Булони 21 октября он впервые за год спал в кровати, а после недели пребывания в Лондоне отплыл на пароходе Ionian – потрепанном судне с палубами, все еще испачканными кровью после перевозки раненых в битве при Галлиполи. 13 ноября Вейкфилд прибыл в Монреаль. Но дома он оставался недолго. За два дня до Рождества он записался в канадскую армию и в течение следующего года служил сначала на госпитальном судне Letitia, а затем на судне Araguaya, плавая туда-обратно через Атлантику по линии Ливерпуль – Галифакс. Письма Вейкфилда, написанные в 1917 году, утеряны, как полагают члены его семьи – сожжены. Но в официальных отчетах об этих рейсах говорится о сотнях молодых людей, списанных после военных действий. Вейкфилд отвечал за самых тяжелораненых: лежачих больных, бойцов с ампутациями, за сумасшедших, которых при необходимости привязывали ремнями к койкам. Это была страшная и отупляющая рутина: бесконечные обходы палат, где лежали ослепшие от газа, искалеченные до неузнаваемости, потерявшие память. День начинался в 8:00 с завтрака с офицерами отделения, затем проводился осмотр больных, потом общее собрание в полдень, далее обед, работа с больными до полдника, физические упражнения на палубе перед ужином в шесть вечера.
С каждым трансатлантическим переходом Вейкфилд все больше погружался в депрессию, хотя по-прежнему был способен на подвиги. Так, он организовал спасение раненых 1 августа 1917 года, когда всего в 20 километрах от гавани Галифакса судно село на мель в тумане. Но Вейкфилд не мог избавиться от воспоминаний, его постоянно преследовали случаи, которые оставались почти незамеченными. Например, днем 19 сентября один из его пациентов, обезумевший от войны инвалид, прыгнул за борт. «В тот день штормило, – вспоминал Вейкфилд, – волны захлестывали палубу. Вахтенный увидел случившееся и сразу бросил два спасательных круга, один упал рядом с этим парнем, но он ушел под воду и больше не показался».
Вейкфилд оставался на службе на Araguaya до 12 декабря 1917 года. Через две недели он был в Англии, 29 декабря отправился в Кент, чтобы посетить своего хорошего друга по фамилии Легетт, единственного выжившего из четырех сыновей в семье. Трое остальных погибли во Франции.
Вейкфилду к этому моменту исполнилось 42. Он служил с самого начала войны и в любой момент мог вернуться домой. Но вместо этого вновь поступил на службу и к февралю 1918-го опять оказался во Франции в составе медподразделения Канадского полевого госпиталя, сначала на его резервной базе у моря, а затем в Утро́, недалеко от фронта. Уже к 1918 году ненависть к немцам сквозила почти в каждом письме Вейкфилда. В дневнике он писал о детях, застреленных при оказании помощи голодающему пленному, о жене врача, привязанной за волосы к дому, о десятках реальных и воображаемых поступков людей, которых он называл «звероподобными фрицами». Он ждал победы как шанса призвать к ответу всех, кого считал ответственными за войну: всю немецкую нацию, каждого мужчину и женщину, которых, по его мнению, не коснулись боль и последствия их поступков. Любой мести было мало. 4 декабря 1918 года Вейкфилд писал из Тюнгена, из Баварии: «Фрицы не знают, что такое война. Мы должны преподать им урок. Уверяю вас, я делаю для этого все возможное».
* * *Шесть лет спустя Вейкфилд стоял на вершине Грейт-Гейбл. Когда туман рассеялся и, по словам репортера, «уступил место золотым лучам», собравшиеся сняли дождевики и подняли глаза к небу. Джеффри Янг ступил на камень над памятной бронзой и по знаку Вейкфилда заговорил. Его голос был глубоким, сильным и разносился далеко. Альпинисты, которые добрались только до вершины Грин-Гейбл, расположенной через седловину, говорили потом, что слышали каждое слово, звучавшее так же отчетливо, как горн на поминальной службе. «Они хотели стихов, – вспоминал позже Янг, – но я чувствовал, что лучше говорить прозой».
«Мы собрались, чтобы посвятить это пространство свободе. Здесь начертаны имена людей – наших братьев и товарищей, которые тоже считали, что нет свободы там, где дух человека в рабстве, и которые отдали себя и растворились в этих холмах, ветре и солнечном свете, чтобы свобода нашей земли осталась нетронутой… Этот символ означает освобождение духа через щедрое служение, и наша земля будет давать свободу снова и снова, и так будет всегда. Наследие, которое оставили по себе эти дети холмов, надлежит помнить вечно».
После речи группа кадетов из школы Сент-Бис исполнила гимны «Веди нас, добрый свет» и «Господь нам щит из рода в род». Распогодилось, и, как написал корреспондент газеты Advertiser, «в клубящемся тумане пение было самым впечатляющим моментом церемонии; затем один из присутствующих прочитал псалом “Возведу очи мои горе, откуда прибудет помощь”, а преподобный Дж. Смит произнес молитву».
Лишь Вейкфилд не молился и не склонял головы. Никогда более он не говорил о Боге и не посещал религиозные службы. И никогда не водил своих детей в церковь.
Церемония на Грет-Гейбл закончилась пением гимна «Боже, храни короля».
Глава вторая
Эверест воображенный

Одиннадцатый вице-король Индии Джордж Натаниэль Керзон страдал от врожденного искривления позвоночника, из-за чего носил корсет и испытывал боль при каждом шаге. Но это не мешало ему совершать долгие путешествия по Азии. В 1887 году Керзон отправился в кругосветную поездку по морю и железной дороге, побывал в Канаде, Японии, Гонконге, Индии и вернулся домой через Аден. Годом позже он попал в ханства Центральной Азии, отправившись по суше из Москвы, пересек Каспийское море, добрался до Бухары и Самарканда, а затем на конной повозке до Ташкента и Черного моря. В 1889 году он пересек Персию, проезжая по 120 километров в день по пустыне и заполняя наблюдениями сотни страниц записных книжек, которые опубликовал в 1892 году в виде двухтомника «Персия и персидский вопрос», имевшего большой успех. У Керзона был наметанный глаз, глаз шпиона. Казалось, ничто не ускользало от его внимания.
В 1894 году, после второй кругосветки, Керзон отправился в Индию и сумел добиться от индийского правительства разрешения прибыть с дипломатической миссией к новому эмиру Афганистана. Маршрут Керзон выбрал весьма извилистый. Он предпринял путешествие на север субконтинента – от Гилгита до Памира, увидел дикую красоту Хунзы и стал первым человеком Запада, попавшим к истоку Окса[14] в Русском Туркестане. Этот подвиг был удостоен золотой медали Королевского географического общества. Наконец Керзон с большой помпой въехал в Кабул. Он был облачен в прекрасный мундир с массивными золотыми погонами, сверкающими медалями и орденами, с огромной саблей на боку. Все это заранее было заказано у театрального костюмера в Лондоне. Наряд – чистая фантазия, однако требовалось произвести впечатление.
Лорд Керзон шел по жизни с высоко поднятой головой, компенсируя неуклюжую походку «абсолютной уверенностью в себе». Он во многом олицетворял суть и противоречия британского правления в Индии. Керзон был потомком семисотлетней аристократической фамилии, сыном холодного равнодушного отца и воспитанником няни-садистки, которая однажды заставила мальчика написать записку дворецкому, чтобы тот велел изготовить трость, которой можно было бы бить его. Учась в Итоне и Оксфорде, Керзон носил маску «непробиваемого превосходства». В лондонском обществе поговаривали, что его либидо соперничало с его интеллектом. Керзон унаследовал земли и титулы, получил вдобавок хорошее состояние, женившись на красавице американке Мэри Лейтер. В 1899 году, не достигнув еще сорокалетнего возраста, он воплотил свою мечту, став вице-королем Индии.
Являясь ярчайшим представителем британской имперской авантюры, Керзон был одновременно высокопарным, тщеславным, искренним, бескомпромиссным, находчивым и абсолютно преданным идее превосходства белого человека. Он писал книги об индийских коврах, восстановил Тадж-Махал, сохранил Жемчужную мечеть в Лахоре, королевский дворец в Мандалае и храмы Кхаджурахо. Он требовал чисто абстрактной справедливости и ответственности, наказывая, например, целые армейские полки за надругательство над одной индианкой, в то же время его правительство бездействовало, когда голод охватил Индию и стаи одичавших собак пожирали трупы детей на улицах. Как и английская королева, чьи знания об Индии были почерпнуты из донесений и наблюдения за слугами – Виктория, индийская императрица, ни разу не посетила жемчужину своей короны, – Керзон считал, что у него особое чутье на настоящих индийцев, колоритных и необычных крестьян, которые так не похожи на представителей образованных классов, которых вице-король откровенно презирал. «В правительстве Индии отсутствуют индийцы, – заметил он однажды, – поскольку из всех 300 миллионов жителей субконтинента не найдется ни одного, способного выполнять такую работу». Имперское воображение Керзона разжигала идея Индии, а не ее реальность.