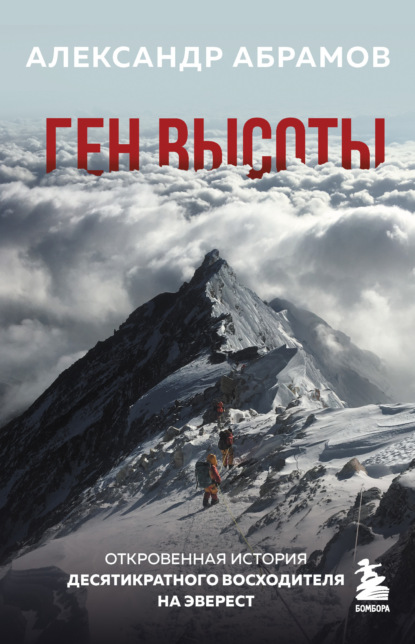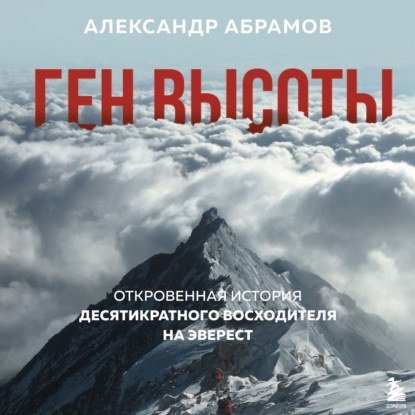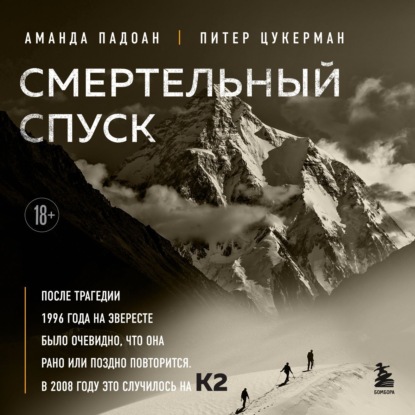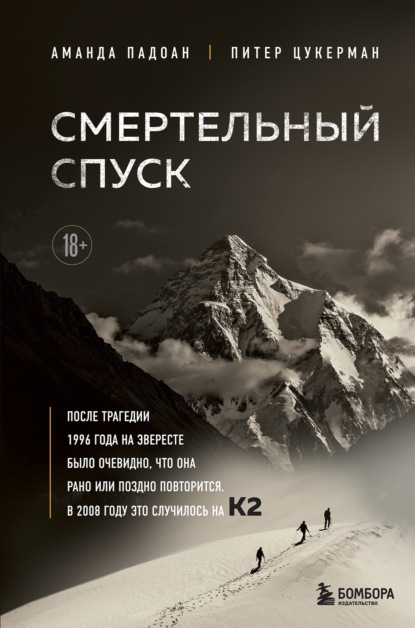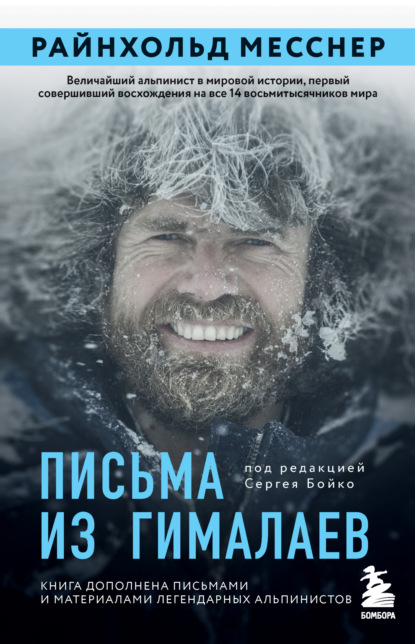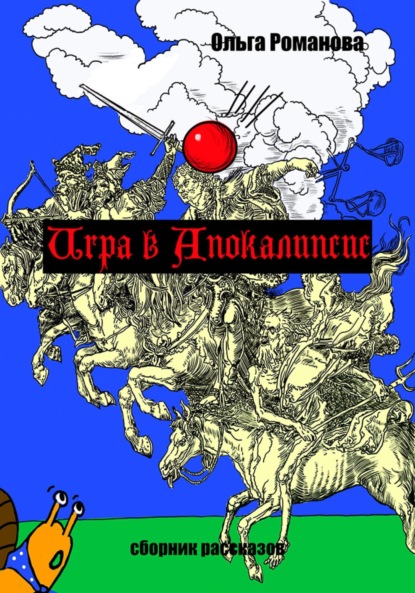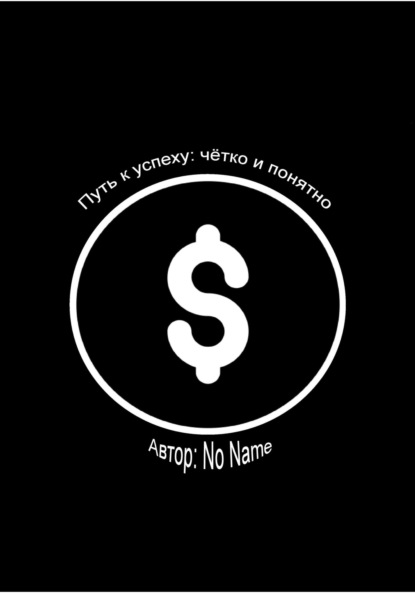В тишине Эвереста. Гонка за высочайшую вершину мира
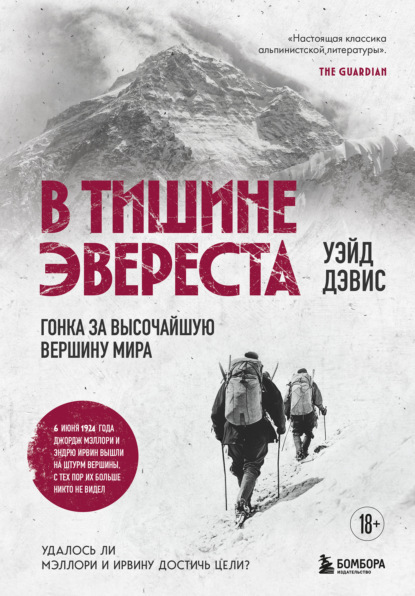
- -
- 100%
- +
Он единолично возглавлял штат из всего лишь 1300 британцев, состоявших на индийской государственной службе. Эти люди управляли пятой частью населения Земли. Индийская армия была сильной и хорошо обученной, но она насчитывала всего 200 тысяч человек, и только треть ее составляли британские полки, рассредоточенные на огромной территории от Сиама до Персии. На большей части Индостана основным представителем британской власти являлся окружной офицер. Эти люди весь день проводили в седле, переезжая из деревни в деревню, разрешая споры, взимая налоги, обеспечивая верховенство закона и поддерживая порядок на тысячах квадратных километров с населением, иногда исчисляемым миллионами. Нещадная эксплуатация, жестокое подавление любого инакомыслия, ниспровержение местных элит – вот на чем держалось британское правление. Но основным столпом его была дерзость и беззастенчивая наглость маленького островного государства, которое никогда не задавалось целью править миром, но тем не менее делало это с поразительным успехом.
Керзон прекрасно понимал, что его власть держится исключительно на презумпции силы. Эта сила демонстрировалась ежедневно, в том числе посредством законов и постановлений. Все было направлено на то, чтобы привить местным жителям чувство неполноценности. В этом и заключается суть колониализма. Имидж имел значение. Во дворце вице-короля в летней столице Британской Индии – Симле работало триста слуг и не менее сотни поваров. Обычно в сезон Керзон устраивал с десяток грандиозных приемов помимо примерно тридцати мероприятий, которые сопровождали важные события лета: государственный бал, второй, не менее роскошный бал-маскарад, детский бал. Кроме того, устраивались вечерние приемы, дневные приемы на открытом воздухе на тысячу персон и танцевальные вечера с сотнями приглашенных гостей. Будучи приверженцем ритуалов и протокола до мельчайших деталей, Керзон требовал, чтобы его слуги носили ливреи и шелковые чулки, и не гнушался лично измерять длину красных ковровых дорожек, разворачиваемых перед ним в торжественных случаях.
Бриллиантовый юбилей Виктории в 1897 году – шестидесятилетие с момента восшествия на престол – считается самым дорогим празднованием за всю историю человечества, но по красочности, пышности и экзотике он не шел ни в какое сравнение с Дурбаром 1903 года, организованным Керзоном в честь коронации сына Виктории Эдуарда VII[15]. Новый король не смог приехать, в Дели монарха представлял его брат герцог Коннаутский, и все двухнедельное празднество стало, по сути, данью уважения вице-королю, на что и рассчитывал Керзон. Более миллиона индийцев собрались на улицах Дели посмотреть на пышную процессию, двигавшуюся из центра на специальное поле в пригороде. Чтобы справиться с потоком приглашенных гостей, которых насчитывалось 173 тысячи, пришлось проложить 8 километров железной дороги, по ней людей доставляли на место празднества. На равнине построили большой амфитеатр и великолепные павильоны, в которых были представлены всевозможные образцы индийского искусства, первый раз в таком количестве собранные в одном месте: ковры и шелка, керамика и эмали, бесценные предметы старины… Каждое княжество Индии занимало отдельный павильон со своими красочными шелковыми знаменами, которые сверкали на солнце.
Вице-король принял всех правителей княжеств, многие эти навабы, низамы и махараджи увидели друг друга впервые. Молитвы и гимны ознаменовали вступление в должность десятков представителей местных элит – мужчин и женщин, удостоенных такой чести за верность и службу британцам. Огромное облако желтой пыли поднялось над равниной, когда первые из 67 эскадронов кавалерии и 35 батальонов пехоты, артиллерии и инженерных войск продефилировали перед собравшимися. Военный смотр продолжался около трех часов. Наконец к помосту и трону на нем подъехал глашатай на коне и велеречиво провозгласил коронацию нового правителя. Грянул залп имперского салюта из ста одного орудия. Не успели пушки умолкнуть, как Керзон выступил вперед и призвал толпу к верности британской короне и преклонению перед неоспоримым могуществом Англии. «В мировой истории никогда не было ничего более великого, – напишет он позже, – чем Британская империя – великолепный инструмент, созданный для блага человечества»[16].
Британцы действительно преобразили облик Индии, построив тысячи километров каналов и железных дорог и возведя города. Но на глубинном уровне присутствие чужеземцев оказалось лишь эфемерным покрывалом над древней цивилизацией, которая на протяжении 4 тысяч лет существовала как империя мысли и духа, а не территориальных владений. Индия часто уступала натиску захватчиков, но в конце концов всегда побеждала, впитывая принесенное извне, и, видимо, в силу мощи своей истории неизбежно превращала любое новое влияние в нечто неизгладимо индийское.
Однако как единое целое Индия была британским изобретением, воображаемой страной, с постоянно меняющимися и расширяющимися границами политических и коммерческих интересов. Эти интересы становились реальными благодаря математикам и сотрудникам Индийской геодезической службы. Карты стали ключом к понятию «Индия». Они вместили в два измерения географические и культурные особенности субконтинента и создали логическое обоснование для дальнейших завоеваний. Мифологический ландшафт огромного пространства, Индия как мечта становилась конкретной и осязаемой, когда ее переносили на бумагу. Не случайно одним из величайших научных исследований XIX века стало измерение и картографирование рельефа Индостана, и не случайно благодаря этому была открыта самая высокая гора в мире.
* * *Географы давно знали, что Земля не является идеальной сферой. Но степень этих искажений, имеющих огромное значение для науки, никто не представлял. В 1802 году началось Великое тригонометрическое исследование, целью которого стало разгадать загадку кривизны земного шара посредством измерения дуги долготы через всю Индию. Математическая база такого исследования довольно проста: если можно на ландшафте отметить три видимые точки и если известно расстояние между двумя из них, то можно измерить угол наклона в каждой из них к третьей, неизвестной точке, и с помощью тригонометрии определить ее положение и расстояние до нее. Как только третья точка определена, она может образовать вместе с одной из известных точек основание нового треугольника, по которому можно установить координаты новой контрольной точки на горизонте, часто горы или другого заметного ориентира. Таким образом, со временем возникла цепь измеренных треугольников – Великая дуга, протянувшаяся более чем на 2,5 тысячи километров с юга на север через весь субконтинент.
Расстояние определялось с помощью калиброванных цепей и измерительных реек. Это предполагало наличие команд геодезистов, продирающихся сквозь джунгли, перебирающихся через болота, карабкающихся по ледникам. Для измерения углов с надлежащей точностью требовались тончайшие приборы – огромные латунные теодолиты, весившие до полутонны. Чтобы перемещать такую махину, привлекали до десяти носильщиков. Фактически это сложно сконструированные телескопы, которые могут поворачиваться вертикально и горизонтально, позволяя измерять все углы в плоскости. Теодолит устанавливали на круглой платформе, прикрученной к вершине десятиметровой опоры, которую вкапывали в землю и подпирали длинными стойками. Рядом устанавливали еще одну платформу с лесами и местом для наблюдателя, откуда он мог проводить измерения. Малейшее движение или смещение теодолита делало все расчеты бесполезными.
Более 40 лет сотрудники Индийской геодезической службы, сопровождаемые армиями рабочих, которые страдали и погибали десятками, перемещались с этими тончайшими инструментами по всему полуострову. Времени для работы всегда было отчаянно мало, ведь только с приходом муссона дымка над Индостаном рассеивается и появляется хорошая видимость. Страдая от тропических болезней, укрываясь от непогоды на заснеженных склонах гор или в безлюдных пустынях, исследователи скрупулезно записывали наблюдения. Ничто не могло заставить их свернуть с пути. Если требовалось установить точку триангуляции и правильно расположить теодолит, уничтожались целые деревни, священные холмы ровнялись с землей, сносились древние храмы.
К 1830-м годам Великая дуга, начавшаяся с юга Индии, достигла подножия Гималаев – гряды самых высоких и самых молодых гор на Земле, протянувшейся изгибом более чем на 2300 километров от Брахмапутры до Инда – расстояние, примерно равное дистанции от Лондона до Москвы. У Гималайского хребта геодезические группы повернули на восток и запад и пошли через предгорья и малярийные джунгли – тераи, где стали создавать новые точки отсчета. Исследователи возводили наблюдательные пункты из глинобитных кирпичей высотой все те же 10 метров, откуда всматривались в горные хребты. Над зноем и пылью индийской равнины, начиная от лесов Бирмы и далее на запад, вздымается свыше тысячи гор более 6 километров в высоту, – это едва ли доступно воображению.
Красота математической науки позволила рассчитать высоту этих вершин с огромных расстояний. В 1846 году группа исследователей под руководством Джона Армстронга обратила внимание на скопление пиков примерно в 225 километрах к западу от Канченджанги, которая в то время считалась высочайшей горой Земли. По сравнению с потрясающе красивым массивом Канченджанги, который доминирует в небе за Дарджилингом, эти далекие горы казались ничем не примечательными – просто белые выступы на горизонте. Армстронг обозначил самую высокую из них как Пик B. Несколько последующих сезонов она оставалась скрытой облаками и дымкой, и только в ноябре 1849 года другой сотрудник геодезической службы, Джеймс Николсон, смог провести серию наблюдений с шести различных станций, ближайшая из которых находилась примерно в 170 километрах от горы, известной к тому времени как Пик XV. Только в 1854 году в штаб-квартире Индийской службы в Дехрадуне и в Калькутте началась обработка полученных Николсоном данных.
Глава Геодезической службы Эндрю Во поручил эту задачу главному вычислителю – блестящему индийскому математику Радханату Сикдару. Учитывая расстояние до объекта и проблему атмосферной рефракции, задача была грандиозной. Сикдару потребовалось два года, чтобы определить, что высочайшая вершина в группе этих неизвестных пиков выше любой другой горы на планете – 8840 метров. Это был потрясающий вычислительный подвиг. Фактическая высота горы, измеренная сегодня с помощью спутниковых технологий, составляет 8849,4 метра. Но Гималаи поднимаются со скоростью примерно сантиметр в год. В 1850-х, когда Сикдар проводил свои расчеты, вершина была чуть ниже. Таким образом, используя карандаш, бумагу и математические премудрости, индиец ошибся всего примерно на 9 метров.
Последующее наименование горы вызвало споры. Британские исследователи по возможности старались давать таким объектам местные названия. Но в письме от 1 марта 1856 года, адресованном сэру Родерику Мёрчисону – президенту Королевского географического общества, Во предложил назвать гору в честь своего предшественника, сэра Джорджа Эвереста, руководившего исследованиями с 1829 года. Сам сэр Эверест принял предложение в штыки. Это выдающийся географ, в основном благодаря ему Великое тригонометрическое исследование оказалось столь успешным. Но Эверест был несчастным человеком, язвительным и раздражительным, имевшим мало друзей в Индии, отчасти из-за пренебрежительного отношения к религиозным памятникам, которые он считал храмами праздности, и к языческим суевериям, мешавшим работе. Фамилия правильно произносится «Иврист» с ударением на первом слоге, и есть некая ирония в том, что гору назвали, навсегда исказив слово. Хотя открытие высоты Пика XV стало достоянием общественности в 1858 году, Королевское географическое общество официально утвердило название только в 1865-м, за год до смерти Джорджа Эвереста.
Впрочем, спор о наименовании прошел почти незамеченным для британской элиты в Индии, недавно пережившей Восстание сипаев. Да и сама гора не вызвала тогда большого интереса. Пройдет почти 20 лет, прежде чем британец Уильям Вудман Грэм отправится в Гималаи исключительно с целью занятия альпинизмом, и еще 10 лет, прежде чем в 1893 году офицер 5-го гуркхского стрелкового полка Чарльз Брюс и молодой, но уже прославившийся своими путешествиями исследователь и политический агент[17] Фрэнсис Янгхазбенд встретятся в Читрале, на афганской границе, на поле для игры в поло и впервые обсудят идею восхождения на Эверест[18]. Сама гора, как писал Янгхазбенд, «необычайно отдаленная и малозаметная, скрытая за другими пиками». С индийской стороны – единственной площадки для наблюдения, так как Непал и Тибет были закрыты для иностранцев, – «вершина Эвереста виднеется среди могучего скопления других гор, которые ближе к наблюдателю и кажутся выше». Для британских властей Индии наибольший интерес вызывали территории за Эверестом. Тибет – таинственная страна, где великие реки зародились задолго до поднятия Гималаев, а непроходимые ущелья и труднодоступные долины стали убежищем для всего, что священно для буддистов, индуистов, джайнов и последователей религии бон.
* * *Если карты можно назвать метафорой, с помощью которой британская власть в Индии обрела площадь, расстояния и границы, то фундамент, на котором держалась вся имперская авантюра, обеспечили знания и информация. Ботаник, археолог, торговец, геодезист и миссионер стали основными разведчиками империи. Антропология возникла вследствие необходимости изучить и понять народы и культуры, чтобы управлять людскими массами. «Если не рассматривать коммерческую и военную составляющие, – отмечал Керзон, – наш долг состоит в том, чтобы в равной степени заниматься раскопками и делать открытия, классифицировать, описывать, копировать, расшифровывать, а также беречь и сохранять».
Всего за десятилетие до того, как Керзон стал вице-королем, под контроль британцев перешли новые территории Индии, в 50 раз превышающие размеры старой доброй Англии. Британская империя, занимавшая четверть поверхности суши, была в шесть раз крупнее Римской империи в период ее расцвета и почти в сто раз больше, чем собственно Британские острова. Королева Виктория являлась повелительницей каждого четвертого жителя планеты, в общей сложности она правила землями с населением около 500 миллионов человек, а ее флот господствовал на море. На те регионы, куда руки британцев не дотягивались, они оказывали влияние вплоть до доминирования. Весь мир измерял время и долготу по Гринвичу, британские телеграфные и телефонные кабели опоясывали Землю. На английских почтовых марках изображался только профиль королевы, поскольку ни в какой иной национальной идентификации не было необходимости. «В империи, – писал Керзон, – мы нашли не только ключ к славе и богатству, но и призыв к долгу, и средство служения человечеству».
Индия называлась жемчужиной британской короны, павлином в золотой клетке, и для британцев было невыносимо, что самое ценное владение империи окружено малоизученными районами и горами. В начале XIX века предметом одержимости Лондона стали Афганистан и северо-западная граница империи, позднее стратегическую обеспокоенность начали вызывать независимые княжества и королевства на севере. В 1850-х Британия присоединила Ладакх к Кашмиру. Десятилетие спустя англичане аннексировали южные районы Сиккима, вмешались в гражданскую войну в Бутане и стали плести интриги в королевских дворцах Катманду. Однако основным поводом для беспокойства оставался Тибет.
«Границы – это лезвие бритвы, на котором стоит вопрос войны и мира и жизнь целых народов», – писал Керзон. Разочарование британцев обусловливалось тем, что обширные пространства Азии оставались белым пятном на карте, а распространить Великое тригонометрическое исследование на этот регион не представлялось возможным. Рубежи были слишком расплывчаты. Никто не знал, где заканчиваются Гималаи и начинается Гиндукуш. Горы Каракорума, Памира и Куньлуня были не исследованы, равно как и Тибетское нагорье. С 1750 по 1900 год лишь несколько человек с Запада достигли тибетской столицы Лхасы. В конце XIX века британцы все еще не открыли в Тибете дипломатическое представительство. Керзон, несмотря на свой статус, не мог наладить канал связи с тибетскими властями, хотя Лхаса находилась всего в 400 километрах от Дарджилинга, крупного британского торгового и сельскохозяйственного анклава на северо-востоке Индии, откуда чай попадал в каждую английскую деревню.
* * *Тибет, ставший империей в VII веке, завоеванный монголами в XIII, затем, с 1642 года, находился под властью лидеров буддийской школы гелуг – далай-лам, которых тибетцы считают воплощениями Ченрезига, бодхисатвы сострадания[19]. Первым политический контроль над Тибетом получил Далай-лама V, или, как его называют, Великий Пятый, который дал своему духовному учителю, настоятелю монастыря Шигацзе, почетный титул Панчен-лама, Великий ученый. В дальнейшем эти две великие духовные фигуры, дополняющие друг друга, стали столпами тибетского теократического государства.
В буддизме Махаяны бодхисатвой называют просветленного, отказавшегося уходить в нирвану, остающегося в этом мире ради спасения всех живых существ. Бодхисатва Сострадания на санскрите называется Авалокитешвара, что значит «сострадательный взгляд» или «владыка, смотрящий с высоты», по-тибетски – Ченрезиг.
В 1720 году маньчжурская империя Цин, в состав которой входил Китай, начала проявлять большой интерес к тибетской и монгольской политике и учредила посольство в Лхасе, где постоянно находилась титулованная, но политически довольно номинальная фигура – амбань. Британцы признавали и использовали в своих целях фикцию маньчжурского владычества в Тибете, даже когда Цины стали терять могущество. Власть маньчжуров в Китае была свергнута в результате Синхайской революции 1911–1912 годов. Но еще в 1876 году англичане подписали Чифускую конвенцию, которой признали контроль маньчжуров над Тибетом в обмен на признание Цинами права Великобритании на колонизацию Бирмы. Тибет не был участником этого соглашения[20].
С ослаблением цинского влияния власть в Лхасе сосредоточилась в руках тибетской аристократии, здесь доминировали высшие ламы крупнейших монастырей школы гелуг – Гандена, Сера и Дрепунга. Регенты при молодых Далай-ламах назначались Национальным собранием и носили почетный титул Сикьонг Ринпоче, или Драгоценный защитник государства. Другим ядром правительства был Кашаг, Совет четырех, состоящий из трех мирян и одного монаха, которые осуществляли контроль над гражданской администрацией во всех вопросах – политических, судебных, финансовых. В подчинении Кашага находился церковный совет из четырех монахов, отвечавших за все монастыри страны. Тибет был разделен на округа, каждый из них возглавлял уполномоченный, под началом которого находились два окружных чиновника, или дзонгпёна, один – монах, а другой – мирянин. Дзонгпёны непосредственно отвечали за местное управление. Они поддерживали порядок, собирали налоги, разрешали споры и вершили правосудие.
Тибет конца XIX века, безусловно, обладал налетом таинственности, но еще не приобрел в полной мере ореол мистики, который в дальнейшем повлиял на восприятие этой страны иностранцами как на бытовом, так и на метафизическом уровне. В 1890‐х годах мало кто в дипломатических кругах считал Тибет просветленной меритократией и уже тем более не рассматривал его как рай на Земле, находящийся на Крыше мира. Это была просто далекая горная страна. На улицах Лхасы отсутствовали европейцы, но было много кашмирцев, непальцев, ханьцев, монголов, русских – купцов и торговцев, приехавших со всех концов Азии. Монастыри привлекали монахов и паломников из самых дальних уголков. На протяжении тысячи лет тибетское влияние ощущалось на огромном пространстве – от Пекина и степей Монголии до дворов персидских правителей и побережья Черного моря.

Вид на дворец Потала в Лхасе, гравюра на дереве
Как и в любом сложном обществе, в Тибете существовало огромное неравенство. Наказания были суровыми и по современным меркам совершенно несоразмерными преступлениям. Тибетское общество было неидеально, со своими противоречиями. Страна знала, что такое долгие войны, также тибетцам приходилось отбивать вторжения. И когда тибетские правители смотрели на юг, в сторону Индии, они видели в британцах нового геополитического игрока, грозную державу, вступившую в союз с давним врагом – воинственным Непалом, с которым Тибет неоднократно конфликтовал, последняя стычка имела место в 1855 году. Поэтому тибетские власти возмущались захватами индийских княжеств, отправкой британских шпионов на Тибетское нагорье и с большим подозрением относились к поползновениям англичан установить контакты.
В начавшейся шпионской игре, впервые описанной Редьярдом Киплингом в романе «Ким», британцы с 1851 года стали готовить индийцев, живших на севере региона, в качестве исследователей-геодезистов, маскировали их под паломников, монахов и торговцев и отправляли через Гималаи, чтобы узнать, что находится за стеной высочайших гор, в стране, которая отбивала любые дипломатические инициативы Лондона и Калькутты. Целью этих шпионов, или, как их называли, пандитов, то есть ученых, была Лхаса, они пытались выведать информацию о тибетском правительстве, силе армии, численности населения, объеме урожая и так далее. Но чаще пандитам поручали исследовать приграничные районы и собрать географические данные, в частности узнать высоту пиков, направление горных цепей, местонахождение и доступность основных перевалов, найти истоки и высчитать протяженность рек, текущих с Тибетского нагорья в Индию.
Инструменты для исследований пандитам давали самые простые, которые можно было замаскировать и носить с собой как монашескую утварь – в Тибете религиозные принадлежности, как правило, не досматривали. Будущих шпионов обучали ходить с точностью до 2 тысяч шагов на милю, выдавали буддистские четки со 100 бусинами вместо традиционных 108, чтобы можно было перебрасывать по бусине на каждые 100 пройденных шагов и так мерить расстояние. Вместо свитков с молитвами в ручные молитвенные барабаны вкладывали рулоны чистой бумаги, на которой тайно записывались полученные данные. Первого такого шпиона звали Наин Сингх, он прошел от Сиккима до Лхасы, а затем по всему Центральному Тибету, преодолев в общей сложности более 2500 километров и сделав 3 миллиона 160 тысяч шагов. Для определения координат он использовал ртуть, которую пронес через Гималаи в раковинах каури, запечатанных воском[21].
Но самый поразительный подвиг совершил пандит Кинтуп, посланный, чтобы разгадать одну из наиболее интересных географических загадок Гималаев. Англичане знали, что река Цангпо, исток которой находится в Западном Тибете в районе горы Кайлас, считающейся священной у индуистов, буддистов, джайнов и бонцев, течет на восток на протяжении почти 2 тысяч километров и исчезает в Гималаях. На другой стороне гималайского хребта Брахмапутра, одна из величайших рек Индии, появляется из гор в районе местечка Садия, примерно в 2 сотнях километров от места исчезновения Цангпо. Перепад высот очень большой, и исследователей давно мучил вопрос, не являются ли эти две реки одной. Если это так, то что за фантастическое ущелье, через которое столь полноводная река прорывается так стремительно и так быстро теряет высоту? Слухи о таинственных водопадах, превосходящих по высоте все известные на Земле, будоражили воображение англичан.
Ракушки каури (ципреи) были популярны во многих азиатских странах – использовались в качестве денег и в азартных играх.
В 1880 году Кинтуп получил задание проникнуть в Тибет под прикрытием и найти путь вниз по течению Цангпо до места, где он мог бы бросить в реку помеченные бревна, которые с другой стороны Гималаев в верховьях Брахмапутры высматривали бы специально посланные наблюдатели. Кинтупу потребовалось семь месяцев, чтобы добраться до деревни Гьяла, расположенной в начале одного из глубочайших ущелий мира – Большого каньона Ярлунг-Цангпо, куда утекала таинственная река, но здесь спутник пандита предал его и продал в рабство. Более чем через год Кинтупу удалось бежать, но его поймали. Однако он не собирался отступать. Прошло четыре года, прежде чем Кинтуп освободился, смог проследить течение и понял, что Цангпо и Брахмапутра – одна и та же река. Он отправил с нарочным записку в Индию, к англичанам, заготовил 500 бревен, пометил их и бросал в реку по 50 штук в день. Но записку адресатам не доставили, в Индии Кинтупа давно уже считали пропавшим без вести, и никто не следил за бревнами.
Когда в сентябре 1884 года Кинтуп наконец сумел вернуться в Дарджилинг, те, кто отправил его на задание, либо уже давно покинули Индию, либо умерли. Его рассказам никто не поверил. Открытие, сделанное индийцем, не признавали до 1913 года, когда британцы Фредерик Бейли и Генри Морсхед подтвердили полученные Кинтупом данные, причем сами едва не погибли, пока исследовали Цангпо с юга. В дальнейшем на страницах этой книги мы еще встретимся с Бейли, равно как и с Морсхедом, который нанес на карту маршрут к Эвересту, участвовал в экспедициях на гору в 1921 и 1922 годах, а позже был убит в джунглях Бирмы. Благодаря Морсхеду и Бейли Кинтупа, к тому времени уже старика, пригласили в Симлу, где его лично наградил за службу вице-король.