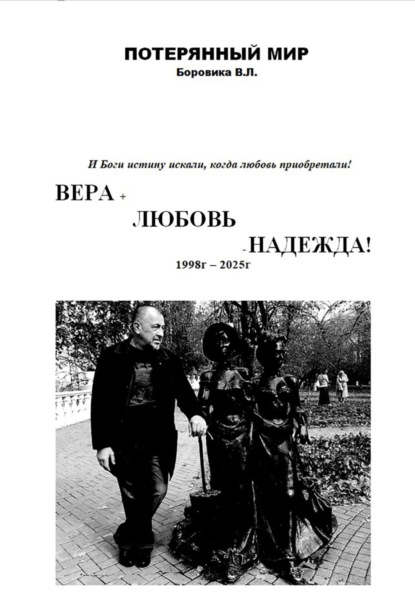Тайны дубовой аллеи
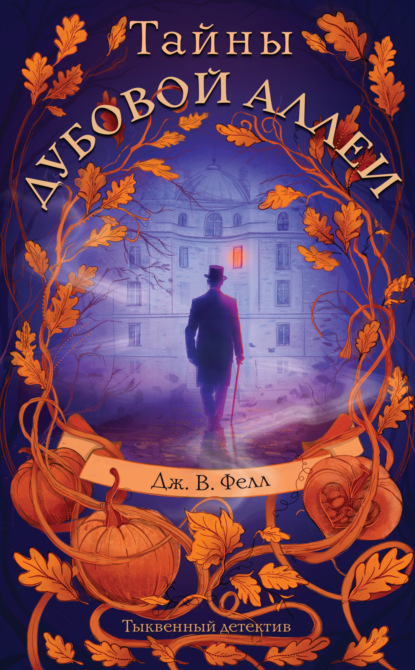
- -
- 100%
- +

© Фелл Дж. В., 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
* * *Пролог
Погода была просто сказочной: мягкое осеннее солнце разогнало утренний туман, блестело в каплях росы, по желтым листьям, трепещущим на легком ветерке, прыгали веселые блики.
«И угораздило же парня помереть в такой чудесный день!» – думал констебль, лениво наблюдая за работой коронера, прибывшего наконец из города. Коронер звезд с неба не хватал, это знали все. Но некоторая глуповатость его скрашивалась незлобивым характером и деликатностью манер.
Теперь он стоял, склонившись над окровавленным телом, и губы его болезненно кривились.
«Слишком я жалостлив для этой работы. Слишком. И нервы никуда не годятся. Не стоило идти на поводу отца и следовать семейным традициям», – думал он всякий раз в подобных случаях. К счастью, в графстве Эльчестер люди обычно умирали от старости или болезни и работы у коронера бывало немного.
Но сегодня ему не повезло. Тело, лежавшее под сосной на опушке рощи, принадлежало юноше, почти мальчику, лет шестнадцати-семнадцати, не больше – жить бы еще да жить. Увы, с жизнью такие травмы не совместимы: кости раздроблены, голова разбита, вдобавок корягой несчастному распороло лицо, из левого глаза торчит сухой сучок.
Коронер достал рабочий блокнот.
– Как имя погибшего? – Вопрос был адресован гринторпскому констеблю, но ответить тот не успел, кто-то из деревенских зевак, столпившихся вокруг и затоптавших все, что можно затоптать, его опередил.
– Так это ж Оливер Бэйкер, сэр, сын покойного Бэйкера, мясника. Да у него и мать померла давно, сирота он. Оттого и на сосну полез, что сирота. Птиц ловит на продажу, тем и живет наш птицелов, – оживленно тарахтел словоохотливый зевака. – Эвон, на какую высотищу взгромоздился. Немудрено, что в лепешку!
– Подумаешь, высота, – хмыкнул стоявший рядом мальчишка, – я и выше смогу.
– Я те смогу, я те смогу! – напустился на него зевака. – Один вон смог уже – костей не соберешь.
Но констебль уже выдернул мальчишку из толпы за плечо:
– Это ты, что ли, такой ловкий? А ну-ка, полезай, посмотри, стоят наверху ловушки?
Что-то не нравилось ему в этом деле, что-то тревожило и мешало.
Мальчишка на лету перехватил брошенную монетку, сунул в карман и кинув на оторопевшего родителя победный взгляд, по-обезьяньи ловко взлетел на сосну.
– Не-а, – проорал сверху. – Нет тут ничего, пусто.
– Ты лучше, внимательнее смотри!
– Да говорю, нету! Уж все осмотрел! Ветки вон обломаны, а больше ничего. Че я, не знаю, как ловушки ставят? Мне сам Бэйкер и показывал сколько раз… – Парень соскочил с дерева. – Да и вообще, он на соснах ловушки редко мостил, только разве на клеста. Так ведь клеста больше по зиме ловят.
Констебль с коронером переглянулись. Дело принимало неожиданный оборот. Зачем птицелову лезть на дерево без снаряжения?
– А вдруг все же убийство? – осторожно предположил констебль. Ему становилось все тревожнее.
– Да полно вам, – отмахнулся коронер. – Как вы это себе представляете: злодей тащит жертву на дерево, бросает вниз на заготовленную корягу? Слишком уж экзотичный и трудноосуществимый способ, не находите?
– Но если его убили на земле, а под дерево просто перенесли? – не сдавался констебль.
Коронер вздохнул снисходительно:
– Бедный мальчик погиб от единственного, но страшного удара – вы посмотрите, какие травмы, это же мешок с костями. Кто, по-вашему, мог его так ударить на земле? Это же совершенно нечеловеческая сила нужна. Тут налицо падение с высоты.
– А если одержимый? – понизил голос констебль, ему стало жутко от собственной мысли. – Сила у них нечеловеческая…
– Остался бы магический след, – перебил коронер. – Нет, убийство я полностью исключаю, должна быть другая причина.
Причина нашлась, новая свидетельница быстро расставила все по местам.
– Да какие там клесты, – всхлипнула она. – От любви это! Все знают, Бэйкер к дочке нашего шорника клинья подбивал, а ее как раз на той неделе замуж-то и выдали! Да не за него, сердешного. Вот он на сосну-то и влез с горя и полетел, полетел. Известно, сирота, отца-матери нет, утешить некому…
Коронер отвернулся и украдкой вытер глаза.
«Самоубийство на почве неразделенной любви», – записал он в блокнот предварительный вердикт и объявил:
– Здесь все ясно. Тело можно увозить.
И никто, никто из собравшихся в то утро на опушке не знал, что из зарослей терновника за ними внимательно наблюдают чьи-то глаза. Только констебль зябко повел плечами, будто почувствовал.
1
Над городом висел густой осенний туман. День шел за днем, лето кончилось, сентябрь сменился октябрем, желтели и опадали листья с кленов, а туман все висел, не рассеивался даже в самые ветреные дни, лишь становился более прозрачным и клочковатым, позволял разглядеть бледное солнечное пятно в прорехах низких туч. А потом опять сгущался непроницаемой пеленой, и город становился похожим на аквариум, наполненный мутной серой водой. Этот сумрак не могли рассеять даже газовые фонари, которые на центральных улицах не выключали и днем.
Мостовые были мокрые без дождя, капало с крыш, пахло плесенью, на древесных стволах вырастали яркие желтые грибы на бархатно-черных ножках. Здесь, в городе, никто не знал, что их можно есть, что это даже вкусно, если зажарить на краденном в оружейной рапсовом масле, с краденной у зеленщика луковицей и смешать с казарменной овсянкой. Горожане считали их погаными, годными только для колдовских зелий и обходили стороной. Вот и хорошо, потому что иначе на всех не хватило бы.
Сто тридцать восемь человек целыми днями бродили по городским улицам и скверам, собирали грибы. Больше заняться было нечем. Потому что война вдруг кончилась.
Этого никто не ждал. За пять лет к ней так привыкли, что успели вообразить, будто она продлится вечно и, значит, можно будет и дальше жить одним днем, ни о чем не думая, ни о чем не заботясь. Какой смысл загадывать на будущее, если каждая новая минута твоей жизни может стать последней? На войне не было будущего и прошлого, только настоящее, сжатое в короткий миг. И казалось, это навсегда.
Но война вдруг кончилась, поражением, победой ли – этого никто не понял. Людям ничего не стали объяснять, просто погрузили на корабли, полк за полком, – и в путь. Прощайте, дикие леса Восточных колоний и белые пески Такхемета, ставшие красными от нашей и вражьей крови! Здравствуйте, туманные берега забытой родины! Солдаты вернулись домой.
Но этим ста тридцати восьми возвращаться было некуда.
Их разместили в казарме Баргейтского пехотного училища. Временно, пока не устроят жизнь. Три помещения на пятьдесят человек. Койки в три яруса. Тумбочка на троих, смена белья, паек плюс горячий обед – вот все, что они заслужили за пять лет войны.
Но капитану Норберту Реджинальду Веттели, лорду Анстетту, было легче, чем остальным. Офицерам полагалось денежное пособие в семь шиллингов четыре пенса в день, поэтому лук он мог не воровать, а честно купить у зеленщика. Пожалуй, и на масло хватило бы, но он решил экономить, потому что в мирной жизни о будущем полагалось заботиться смолоду. Да-да, именно смолоду. Это там, в дальних странах, Веттели был старым бойцом, самым опытным из офицеров, лучшим разведчиком полка. А в каменных городских закоулках он вдруг оказался мальчиком-сиротой без семьи, без дома, без работы и мирной профессии, без денег, без каких-либо жизненных перспектив.
Известие о смерти отца пришло на второй год войны, в один из страшных дней штурма очередной крепости. Чудо, что оно вообще дошло, учитывая, как работала связь. Сумку с полевой почтой нашли под стеной водонапорной башни, к ней была прицеплена мертвая рука. Руку отцепили, почту разобрали – и пожалуйте, господин лейтенант (тогда еще лейтенант), письмецо с родины в траурной каемочке.
Это было так странно: они в этой огненной каше все еще живы, а где-то далеко, в мирном отечестве, в своем родном имении человек вдруг взял и умер. Еще и по доброй воле – застрелился из охотничьего ружья. Разве не дурость? Тогда все удивлялись, приставали к Веттели: «А правда, что твой отец?.. Ну надо же! Чего только не бывает на свете!»
Он не очень горько скорбел тогда. Даже скорее вообще не скорбел, только удивлялся вместе со всеми. Каждый день рядом гибли люди, ставшие по-настоящему близкими, а отца он почти не знал. До пяти лет погибшую при родах мать заменяли няня и гувернантка, потом были частный пансион для мальчиков и школа в Эрчестере. Оттуда они, шестнадцатилетние, – золотая молодежь, цвет и надежда нации, изысканные, элегантные, иронично-остроумные, эстетствующие юноши – строем ушли на фронт воодушевлять и вести за собой войска.
Спустя полтора года из целого выпуска в живых остался один Норберт Веттели. Сидел среди развалин насандрийского казначейства, на обломке статуи чужого бога, читал сухие строчки официального уведомления о смерти и пытался разбудить хоть какие-то чувства в своей душе. Вспоминал, как в раннем детстве гувернантка каждое утро за руку вводила его в отцовский кабинет – здороваться и потом, вечером, прощаться. Кабинет казался тесным и мрачным, в нем царствовал огромный диван, обтянутый черной кожей.
Диван напоминал злого водяного зверя, маленький Берти его опасался. Хозяина кабинета он тоже опасался, говорил с ним тихо и учтиво, как с чужим, и старался скорее ускользнуть. Иногда, если мисс Гладстоун докладывала, что «сегодня наш мальчик вел себя на удивление сносно», отец проводил ладонью по его щеке. У него была жесткая, всегда холодная рука.
Месяца через четыре пришло еще одно официальное письмо, от адвокатов, о том, что родовое имение Анстетт-Холл ушло с молотка со всем имуществом: отец застрелился из-за карточных долгов, он был полностью разорен. Это известие лорд Анстетт воспринял еще более равнодушно, он вообще не понимал, каким боком его касаются все эти имущественные дела, почему они должны вызывать у него интерес, ведь его самого совсем скоро не станет на этом свете.
Но прошло еще несколько лет – поневоле пришлось понять.
…Жизнь в казарме была вольная и буйная. Сто тридцать восемь головорезов, не страшащихся ни божьего гнева, ни городских властей, собрались под одной казенной крышей. Они пили, буянили, портили военное имущество и дурно влияли на курсантов. Бедный начальник училища, пожилой полковник Коберн, за всю свою долгую жизнь так и не узнавший настоящей войны, был в ужасе, но поделать ничего не мог. Фронтовики соглашались подчиняться семерым офицерам, разделившим с ними кров, и в их присутствии даже бранились тише обычного. Пожалуй, они сумели бы навести порядок в казарме, но зачем себя утруждать? Война кончилась, а без нее жизнь утратила привычный смысл.
Еще не научившись заглядывать в отдаленное будущее, Веттели пока желал только одного: уйти из казармы. Он устал, постоянно ныли старые раны, он чувствовал себя старым и нездоровым, а на бирже ему каждый раз говорили: «Увы, для этой должности вы слишком молоды. Но не огорчайтесь, какие ваши годы, все еще впереди…»
С работой в городе была беда. Примкнуть к очереди из фронтовиков несколько раз пытался и Веттели, но рядом стояли здоровенные мужики из числа уволенных портовых рабочих, фабричных грузчиков и заводских молотобойцев. При таком богатом выборе хозяева даже глядеть не хотели на бледного и худосочного юношу аристократичной внешности, которую плохо скрывал поношенный офицерский мундир без шевронов.
Да, со знаками отличия «условно демобилизованным» пришлось расстаться, всем до единого. По крайней мере половина из них (Веттели в том числе) хотели бы остаться на службе – кто любил это дело, кто привык, а большинству просто некуда было податься. Но так уж удивительно совпало, что каждому из ста тридцати восьми довелось участвовать в двухлетней осаде неприступной такхеметской крепости Кафьот. Что-то странное творилось там, недоброе, из разряда тех явлений, о которых не говорят после заката, да и вообще стараются лишний раз не вспоминать. Приказ командования был однозначен: уволить всех непосредственных участников Кафьотской осады, в каких бы ни состояли званиях и чинах, и впредь на службу не принимать не только самих, но и потомков их до третьего колена.
Вот и осталось капитану Веттели обивать порог трудовой биржи, а в промежутках собирать на туманных городских улицах желтые блестящие грибы. Бессмысленная, тоскливая жизнь – зачем она нужна?
Пятый день он думал о… нет, не о самоубийстве, конечно. Это было бы недопустимой глупостью, – выжить в стольких боях, а потом последовать дурному примеру почти незнакомого отца.
Веттели думал об отъезде. Куда? Да какая разница! Лишь бы подальше от казармы с ее буйными обитателями, от Баргейта с его странными холодными туманами, дающими знаменитым столичным сто очков форы, от Старого Света, измученного войной, от цивилизации вообще. Скопить денег на билет, а может, записаться в команду, если повезет, или, в конце концов, ограбить кого, сесть на океанский корабль, а дальше… А дальше ни о чем думать не придется, потому что в пути он наверняка умрет, ведь на море его всегда тошнит.
Последняя мысль Веттели особенно успокаивала.
Нет, он пока еще ничего не решил окончательно и время от времени переключался с дорожных планов на другие мысли: о том, что урожай сегодня неплох; что желтые и красные кленовые листья, распластавшиеся по мокрой мостовой, напоминают картины модных живописцев, и это очень красиво, жаль, некому показать, потому что в казарме мало кто интересуется такими вещами; что если как-то продержаться этот год, то летом можно будет записаться в университет, вроде бы правительство готово оплатить фронтовикам первые два семестра обучения… Так думал капитан Веттели, но ноги сами, без участия разума, влекли его в припортовые кварталы, где между серыми стенами домов уже проглядывали размытые туманом очертания корабельных мачт.
…Именно там, неподалеку от порта, возле открытой двери кондитерской, под кованым трехрогим фонарем и произошла встреча, изменившая наконец его тоскливую и бессмысленную жизнь.
Он как раз стоял у фонаря, ловил носом волну теплого, наполненного ароматом корицы воздуха, идущего от раскрытой двери, и мучительно решал: разориться на горячую булочку или ограничиться казенным обедом, который был давно, и ужином, который наступит нескоро? Разум говорил: булочка с корицей – это роскошь, без которой вполне можно обойтись, тем более что сегодня еще предстоит непременно потратиться на теплые носки, иначе завтра он без них точно простудится. Но желудок требовал свое, ему не было никакого дела до носков. Неизвестно, сколько бы еще лорд Анстетт терзался булочно-носочными противоречиями и чем бы решился вопрос, но тут его окликнули. Голос был хорошо знакомым, а интонация оживленной до развязности:
– Ба-а! Капитан Веттели! Какая встреча! Не знал, что вы до сих пор торчите в Баргейте! Здесь никого из наших не осталось, все разъехались по домам… Ах да! Забыл, что вам больше некуда податься! Как, хорошо ли устроились? Или все еще в казармах? Что-то бледный у вас вид, капитан, можно подумать, вас чепиди[1] покусала! Что вы с собой сделали?
В довершение этой бесцеремонной речи Веттели дружески хлопнули по плечу. Да, это тоже была забавная примета мирного времени. Прежде лейтенант Токслей, а это был именно он, не позволил бы себе обратиться к своему капитану столь вольно, тем более что они никогда даже не приятельствовали. Их отношения оставались доброжелательно-официальными – сказывалась почти десятилетняя разница в летах, да и Веттели, будучи несколько замкнутым по характеру, предпочитал старых школьных друзей новым армейским и к сближению не стремился.
Но если бы его попросили назвать лучшего из своих офицеров, он бы не задумываясь остановил выбор на Фердинанде Токслее.
Уроженец южных материковых провинций, сын школьного учителя, он был отличным солдатом, толковым подчиненным, человеком простым и компанейским в общении, надежным и бесстрашным в бою. Была в нем та особенная, лихая удаль, что чаще можно наблюдать у жителей континента и так редко – у холодных и сдержанных альбионцев. Поднять бойцов в атаку? Привести в чувство впавших в панику новобранцев? Жестко пресечь мародерство? Остановить пьяную драку? Встать между разъяренными дуэлянтами? Предпринять отчаянно дерзкую вылазку неприятелю в тыл? Это все Токслей.
В полк Веттели прибыл на год позже Токслея. Вместе прошли почти всю войну, но ближе к концу их пути разошлись, и теперь неожиданная встреча обрадовала обоих. Уставший от одиночества Норберт легко простил однополчанину моветон, и его слова «О! Лейтенант! Счастлив вас видеть!» были вполне искренними.
А больше он ничего не успел сказать, потому что из кондитерской хлынула новая волна восхитительно-ароматного тепла, несчастный желудок свело голодной судорогой, а весь окружающий мир пополз куда-то вбок и окончательно канул в туман. Спасибо, рядом оказался фонарный столб, и Веттели успел уцепиться за него, иначе, пожалуй, не устоял бы на ногах. А может, не столбу вовсе, а лейтенанту Токслею он был обязан тем, что все-таки устоял. Именно его округлившееся рыжеусое лицо было первым, что проявилось из тумана перед Веттели, его руки он почувствовал у себя на плечах и его встревоженный голос услышал:
– Боги милостивые, капитан, да что с вами?! Вы здоровы?
– Вполне! – заверил Веттели хрипло и понадежнее уцепился за столб.
Лейтенант Токслей ему не поверил.
– Да на вас лица нет! Определенно, я не могу оставить вас в таком состоянии! Здесь холодно, идемте куда-нибудь… ах, да вот хоть в кондитерскую, что ли! Надеюсь, у них подают кофе… – Желудок вновь болезненно сжался, и мир поплыл. – Послушайте, вы сможете дойти?
– Разумеется! – бодро пообещал Веттели, хотя втайне затосковал, что сейчас придется расстаться со спасительным столбом. К счастью, его поддержали за локоть.
В кондитерской было умопомрачительно-прекрасно.
Перед носом возникли две булочки – марципановая и с корицей. И еще маленькая белая кофейная чашка, от нее шел пар, на темной поверхности плавала светлая пенка. У девушки-официантки было обеспокоенное лицо. Потом откуда-то появилась пожилая хозяйка, сказала сердито: «Что это вы здесь глупостями занимаетесь! Понимать же надо!» Ушла, а некоторое время спустя вернулась с тарелкой жареной колбасы, залитой яйцом. Поставила перед капитаном, робко провела ладонью по его изрядно обросшей макушке, всхлипнула и скрылась из вида.
– У нее сын погиб в Такхемете, под Беджурой, – пояснила официантка тихо.
– Да, там много народу полегло, – согласился Токслей. – Едва не половина нашего полка.
Веттели их почти не слушал. Ему не хотелось вспоминать Беджуру, он вспоминал, сколько лет назад в последний раз ел жареную колбасу с луком и яйцом. Получалось, что очень давно, в первые дни мобилизации.
Просто удивительно, как мало надо человеку для счастья – достаточно колбасы, булочек и чашки кофе. Жизнь, четверть часа назад казавшаяся беспросветной и ненужной, вдруг стала очень даже ничего, в голове прояснилось, и туман перед глазами рассеялся без следа.
– Вам лучше? – обрадовался лейтенант Токслей. – Так расскажите же наконец, что с вами творится. Честное слово, это было похоже на голодный обморок.
Рассказывать не хотелось, промолчать было бы невежливо, слова поначалу подбирались плохо. Из-за тонкой перегородки доносились сдержанные женские всхлипы – акустика в кондитерской оказалась лучше, чем в оперном театре, на кухне было слышно каждое слово, произнесенное посетителями крохотного торгового зала, и наоборот. Веттели как мог коротко и даже не без юмора, вдруг прорезавшегося невесть откуда, обрисовал свое нынешнее положение, включая дилемму булочка – носки.
На этом месте из кухни донесся трагический вопль: «Ах ты, господи, знала бы я, что он там под дверью топчется! Что же не вошел-то?!»
Токслей слушал и мрачнел все больше.
– Это гоблины знают что! – сказал он. – Мы пять лет кормили падальщиков и гулей ради «интересов Альбионской короны», а когда это безумие кончилось, нас бросили на произвол судьбы, будто старый хлам. Они должны были позаботиться о трудоустройстве отставных офицеров-кафьотцев, назначить на соответствующие гражданские должности. Они ведь гарантии давали, демоны их подери!
– Давали, – согласился Веттели с усмешкой, ему в самом деле было забавно. – Но есть еще такая неприятная штука – двадцатитрехлетний возрастной ценз. Те должности, которым я соответствую по званию, не могу занять по возрасту, а те, на которые по возрасту прохожу, не соответствуют капитанскому званию, поэтому мне никто не обязан их предоставлять. А через несколько лет срок действия указа об условных отставниках Кафьота истечет и мне вообще ничего не будет причитаться. Замкнутый круг… Ну и пусть! Выберусь как-нибудь. – Он легкомысленно махнул рукой. После сытной еды будущее заиграло неоправданно-розовыми красками. Вот только надолго ли?
– Послушайте, капитан! – Токслей вдруг хлопнул себя ладонью по лбу. – Ведь я знаю, что с вами делать! Бросайте этот ужасный туманный город, едемте со мной в Гринторп!
Случайное совпадение или перст судьбы, но название это было Веттели хорошо знакомо. Из деревни Гринторп, которая находилась в графстве Эльчестер, была родом его няня, миссис Феппс. Будучи особой весьма словоохотливой, она часто пускалась в воспоминания о родных краях, и в ее бесконечных рассказах фигурировали посевы ячменя, стада коров, кладбищенские призраки и чрезвычайно зловредные боггарты, от которых ночью никакого покоя, если забудешь положить под матрас ветку можжевельника.
– Что же я стану делать в Гринторпе? – удивился Веттели. Он имел небогатое представление о мирной жизни вообще, а уж о мирной сельской жизни и вовсе никакого. – Я совершенно чужд этого… как его… Земледелия и животноводства! – В памяти всплыло что-то из экономической географии.
Но Токслей от его слов только отмахнулся:
– Никакого земледелия, никакого животноводства, обещаю! В Гринторпе открыта частная школа с пансионом для мальчиков и девочек, своего рода педагогический эксперимент. Так называемое «совместное обучение». Весьма престижное заведение, надо отметить, возможно, попало в модную струю. Обещает стать вторым Феллфордом или даже Эрчестером. Разумеется, я имею в виду не качество обучения, а учеников. О качестве можете судить сами, узнав, что в штате, к примеру, состоит ваш покорный слуга. – Токслей поклонился и шумно рассмеялся собственной шутке.
Лорд Анстетт слушал и недоуменно моргал. В педагогике он смыслил не больше, чем в сельском хозяйстве.
– Директор – добрый знакомый моего старика, прекрасно ко мне относится. Уверен, он и вас хорошо встретит. Нам как раз срочно нужен преподаватель военного дела для мальчиков. Он предлагал ставку мне, но меня от всего военного уже тошнит, предпочитаю ограничиться физическим воспитанием: гимнастика, гребля, регби, крикет, файербол и прочие мирные забавы. А для вас эта должность придется как раз кстати. Вы согласны?
– Да… Нет… – Веттели не знал, что ответить. – Я совершенно не умею обращаться с детьми. У меня же нет никакой подготовки, специального образования…
– О-о! – перебил Токслей, не дослушав. – И это мне говорит лучший выпускник Эрчестера за пять предвоенных лет… да-да, не удивляйтесь, о ваших интеллектуальных заслугах мы все были прекрасно осведомлены. Тут уж благодарите ваших покойных однокашников. Они в свое время любили язвить: почувствует кладбищенский гуль разницу между первым эрчестерским выпускником и последним, когда вы попадетесь ему на зуб… Да. Что же касается детей, так это те же новобранцы, вся разница, что еще не научились пить и, сбежав в самоволку, таскаться по девкам. Порой эти юные негодяи тоже бывают буйными, но с вашим-то опытом и хладнокровием вы обуздаете их в два счета, уж поверьте.
Веттели вскинул на сослуживца удивленный взгляд. Нет, насчет опыта и хладнокровия тот, похоже, не иронизировал. Что ж, возможно, со стороны это выглядело именно так.
А Токслей продолжал убеждать, хотя нужды в том уже не было. Веттели всеми зубами и когтями готов был вцепиться в любую возможность хоть ненадолго покинуть проклятую казарму, просто не успевал вставить слово в экспрессивный монолог лейтенанта, а перебивать было неловко.
– Право, капитан, напрасно вы сомневаетесь! Что вам стоит хотя бы попробовать? В Баргейте вас ничего не держит. Съездим в Гринторп, оглядитесь, вам там непременно понравится, это воистину сказочное место. Представляете, там еще сохранились феи в старом замковом парке. Не знаю, как они выносят наше шумное общество? На должность вас примут. У старика Инджерсолла, нашего директора, положение безвыходное: занятий по военному делу не было с начала триместра. Пробовали приспособить отставного полковника Честера Гримслоу, из деревенских, но, кроме муштры, он ни в чем не разбирается, а еще он в маразме и не дурак выпить. Представьте: в школе идут занятия, а он выведет класс во внутренний двор, построит в три шеренги и гоняет кругами под строевую песнь. Да еще требует, чтобы орали громче, глуховат, не слышно ему. Ну, наши оболтусы и рады стараться. Смех и грех! Учителя стали жаловаться, что нет никакой возможности работать. Полковника вежливо спровадили, а замены пока не нашлось. Удивительное дело, при нынешней-то безработице. Сама судьба приготовила это место именно для вас, не иначе! Тут главное зацепиться. Ведь всего-то год-другой пересидеть. Здоровый климат, деревенская еда, отдельная комната. А в этом тумане после вашего ранения вы и до лета не протянете, уж поверьте, знаю, о чем говорю. Вы и сейчас больше похожи на призрака, чем на живого человека, а впереди зима. Да и что вы, собственно, теряете? Ей-богу, не узнаю своего капитана, что с вами сталось за какие-то четыре месяца? Ну? Вы согласны?