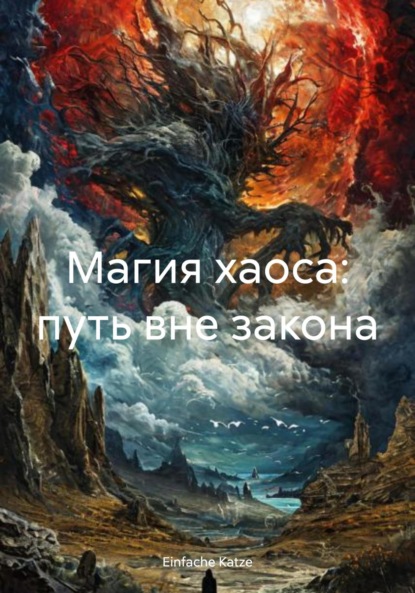Сочинения Джорджа Беркли. Том 1 из 4: Философские работы, 1705-21
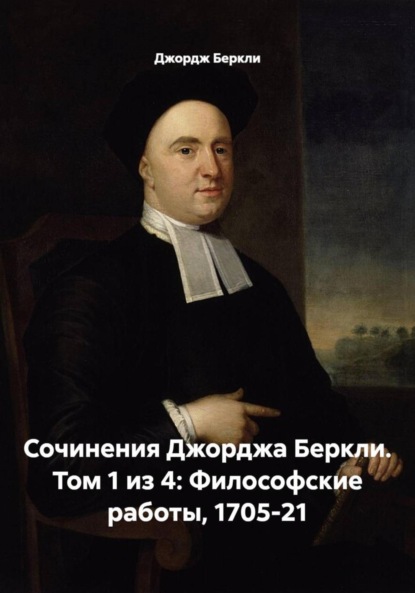
- -
- 100%
- +

Джордж Беркли: Ранние философские труды.
«Сочинения Джорджа Беркли. Том 1 из 4: Философские работы, 1705-21» Беркли – это собрание философских текстов, написанных в начале XVIII века. Данный том сосредоточен на ранних воззрениях Беркли и основополагающих аргументах его метафизических теорий, включая несколько ключевых работ, связанных со зрением, познанием и существованием Бога. Сборник представлен с редакторскими комментариями и биографией, подготовленными Александром Кэмпбеллом Фрейзером, что углубляет понимание трудов Беркли.
Начало этого тома знакомит со значимостью философского вклада Беркли. В нем подробно излагаются его ранняя жизнь, образование и изменчивая природа его идей по мере того, как он начал ставить под сомнение господствующие философские учения. Текст описывает становление Беркли как мыслителя на фоне новых философских течений в Тринити-колледже в Дублине, где он познакомился с различными влиятельными философскими школами.
В своих произведениях Беркли стремится оспорить материалистические взгляды и аргументировать в пользу мира, понимаемого через призму восприятия и божественного провидения, закладывая основу для своих более поздних и разработанных аргументов в пользу идеализма и природы реальности.
Предисловие.
Более тридцати лет назад мне было предложено подготовить полное издание «Сочинений епископа Беркли» с примечаниями для издательства «Кларендон Пресс» в Оксфорде. Это издание, содержащее множество его ранее не публиковавшихся работ, вышло в 1871 году. За ним последовал в 1874 году том аннотированных «Избранных произведений» из его философских трудов; а в 1881 году я подготовил небольшую книгу о «Беркли» для серии «Философская классика» издательства «Блэквуд».
Издание «Сочинений» 1871 года зародилось, я полагаю, благодаря очерку «Реальный мир Беркли», который я опубликовал в «Macmillan's Magazine» в 1862 году, а затем другому очерку в 1864 году в «North British Review». Эти эссе указывали на преимущества для современной мысли, которые можно было бы извлечь из рассмотрения фундаментальных вопросов о человеке и вселенной в той форме, в которой они представлены философом, пострадавшим от непонимания больше, чем почти любой другой современный мыслитель. В течение части своей жизни он был ведущим метафизиком в Европе в неметафизическое поколение. И в нашей стране, после возрождения философии в конце восемнадцатого века, такие термины, как идея, материя, субстанция, причина и другие, играющие важную роль в его трудах, утратили то значение, которое он вкладывал; [стр. vi] тогда как в Германии скептические размышления Дэвида Юма породили реконструктивную критику со стороны Канта и его последователей, которая, казалось, в то время мало была связана с апостериорными методами и принципами Беркли.
Успех попытки привлечь внимание к Беркли превзошел все ожидания. Почти двадцать тысяч экземпляров трех упомянутых выше публикаций нашли своего читателя в Европе и Америке; а критические оценки Беркли, данные видными писателями и появившиеся с 1871 года в Великобритании, Франции, Германии, Дании, Голландии, Италии, Америке и Индии, подтверждают мнение, что его «Сочинения» содержат слово, актуальное даже для двадцатого века. Среди тех, кто высказывал appreciative критические отзывы о Беркли за последние тридцать лет, были Дж. С. Милль, Мэнсел, Хаксли, Т. Х. Грин, Магуайр, Коллинз Саймон, праведный достопочтенный А. Дж. Бальфур, мистер Лесли Стивен, доктор Хатчисон Стирлинг, профессор Т. К. Абботт, профессор Ван дер Вейк, г-н Пенжон, Ибервег, Фридрихс, Ульрици, Янич, Ойген Мейер, Шпиккер, Лёви, профессор Хёффдинг из Копенгагена, доктор Лоренц, Ной Портер и Краут, не считая эссе в главных британских, континентальных и американских обозрениях. Текст тех произведений Беркли, которые были опубликованы при его жизни, обогащенный биографическим введением мистера А. Дж. Бальфура, тщательно отредактированный мистером Джорджем Сэмпсоном, появился в 1897 году. В 1900 году доктор Р. Ричтер из Лейпцигского университета выпустил новый перевод на немецкий язык «Диалогов между Гиласом и Филонусом» с [стр. vii] превосходным Введением и примечаниями. Эти оценки представляют разительный контраст с основанными на непонимании обличениями Уорбертона и Битти в восемнадцатом веке.
В 1899 году мне неожиданно снова предложили Делегаты Оксфордского университетского издательства подготовить новое издание «Сочинений» Беркли с некоторыми сведениями о его жизни, поскольку издание 1871 года разошлось; обстоятельство, которого я не ожидал дожить в своей жизни. Показалось бы самонадеянным браться за то, что следовало бы поручить кому-то, вероятно, более близкому к живой мысли; а на восемьдесят втором году жизни не хватает ни времени, ни сил для отдаленных изысканий. Но воспоминание о том, что я был привлечен к философии во многом благодаря Беркли, на заре жизни, более шестидесяти лет назад, в сочетании с удовольствием от связи таким образом с великим Университетом, в котором он обрел академический приют в старости, побудило меня на склоне лет предпринять эту попытку. И теперь, в начале двадцатого века, я предлагаю эти тома, которые все еще несовершенно воплощают мой идеал окончательного оксфордского издания философа, который провел свои последние дни в Оксфорде и чьи смертные останки покоятся в его Кафедральном соборе.
С 1871 года я нашел материалы, которые представляют биографический и философский интерес. Они дополняют бесценную коллекцию рукописей, которую архидиакон Роз предоставил мне тогда. Эти рукописи вошли в дополнительный том «Жизни и писем».
Несколько лет назад благодаря любезности покойного графа Эгмонта я получил доступ к обширной переписке между его предком, сэром Джоном (позже лордом) Персивалем, и Беркли. Письма были написаны в период с 1709 по 1730 год. Я активно использовал эту переписку в своей работе.
Некоторые интересные письма от Беркли и о нем, адресованные его другу доктору Сэмюэлю Джонсону из Стратфорда в Коннектикуте, впоследствии президенту Кингс-колледжа в Нью-Йорке, появились в 1874 году в «Жизни Джонсона» доктора Бёрдсли, проливая свет на историю Беркли с 1729 года и до его смерти. За этими и за дальнейшей информацией я обязан доктору Бёрдсли.
В этом издании «Сочинений Беркли» мы значительно переработали введения и примечания. Мы добавили краткий очерк его жизни, чтобы проследить, как он развивал и применял свой Принцип. Мы также включили новые материалы из рукописей Персиваля и переписки с Джонсоном, чтобы лучше понять внешние события его жизни.
Перегруппировка произведений – особенность этого издания. Большая часть нового материала из издания 1871 года пришла ко мне на поздней стадии печати, поэтому строгое хронологическое расположение, как предлагал Беркли, было невозможно. Сам философ писал: «Я мог бы пожелать, чтобы все, что я опубликовал на эти философские темы, было прочитано в том порядке, в каком я их опубликовал, и вторично – с критическим взглядом, добавляя свои мысли и наблюдения по мере прочтения».
Первые три тома содержат исключительно философские работы, разделенные на три периода жизни Беркли. Первый том включает его ранние работы, второй – произведения зрелого возраста, а третий – труды поздних лет. В четвертом томе собраны разнообразные произведения.
Первый том начинается с четырех небольших трактатов, в которых Беркли излагал свою новую мысль о вселенной. Эти работы, вместе с его записной книжкой 1871 года, подготовили путь для них. В одном из писем к Джонсону Беркли писал: «Я не удивляюсь, что при первом прочтении люди не бывают полностью убеждены. Напротив, я бы удивился, если бы предрассудки удалось искоренить за несколько часов чтения. У меня не было склонности создавать большие тома. Я хотел дать намеки мыслящим людям, у которых есть время и любознательность, чтобы самостоятельно дойти до сути вещей. Двух- или трехкратное прочтение этих трактатов и размышления над ними, я полагаю, сделали бы все понятным и легким для ума».
Второй том включает «Алкифрон, или Мелкий философ» и его дополнение «Теория зрительного языка, защищенная». Эти работы, связанные с американским предприятием Беркли, защищают религиозную мораль и христианство против атеизма, который он приписывал вольнодумцам.
Третий том содержит «Аналитику» и «Сирис», написанные в поздний период его жизни. «Сирис» особенно характерен для его спокойствия и философской глубины. В обоих произведениях присутствует глубокое чувство тайны вселенной, но метафизика первого теряется в математических спорах, а второго – в медицинских дискуссиях и несистематизированной древности.
Метафизическая важность «Сириса» долгое время оставалась недооцененной. В этом произведении Беркли достигает своей кульминации, рассматривая Бога как связующий принцип вселенной, а материю – как реальную только в живом уме.
Я добавил в Приложение к Третьему тому некоторые материалы философского характера, для которых не нашлось места в редакторских Предисловиях или примечаниях. Историческое значение Сэмюэля Джонсона и Джонатана Эдвардса как пионеров американской философии, а также защитников новой концепции материального мира, связанной с Беркли, признано в Приложении C. Иллюстрации неверного толкования Беркли его ранними критиками представлены в Приложении D. Недавно обнаруженный небольшой трактат Беркли составляет Приложение E. В Четвертом томе многочисленные вопросы, содержавшиеся в первом издании «Вопрошателя» и опущенные в более поздних изданиях, приведены в Приложении, что позволяет читателю восстановить этот интересный трактат в том виде, в каком он первоначально появился.
Таким образом, настоящее издание является по сути новой работой, которая, я надеюсь, обладает определенным философским единством, а также сквозным биографическим интересом.
Поскольку Беркли является непосредственным преемником Локка и поскольку его образование происходило в столкновении с «Опытом [стр. xii] о человеческом разумении», возможно, Локку следовало уделить больше внимания в редакторской части этой книги. Ограниченность объема частично объясняет это упущение; и я вместо этого осмелюсь отослать читателя к «Пролегоменам» и примечаниям в моем издании «Опыта» Локка, которое было опубликовано издательством «Кларендон Пресс» в 1894 году. Могу добавить, что развитие мыслей, которые пронизывают «Жизнь» и многие примечания в этом издании Беркли, можно найти в моей «Философии теизма».[1]
March, 1901.
Читателю нет необходимости обращаться к Беркли в ожидании найти в его трудах всеобъемлющую умозрительную систему, подобную системе Спинозы, или логически выстроенную структуру универсума реальности, какую, предположительно, предлагает Гегель. Однако, я думаю, никто в череде великих английских философов не ставил более подходящим для пробуждения размышлений образом конечный выбор между, с одной стороны, Безосновностью [Unreason], а с другой – Нравственным Разумом, выраженным во всеобщем Божественном Провидении, как корнем незарождающейся и бесконечной эволюции, в которой мы обнаруживаем себя вовлеченными; а также дальнейший вопрос: может ли этот грандиозный практический выбор быть решен какими-либо средствами, доступными человеку? Его философские работы, взятые в совокупности, могут ободрить тех, кто видит в разумной via media между Всеведением и Неведением истинный путь прогресса, в условиях неизбежного для человека устремления к разумной Вере.
Таким образом, есть надежда, что новый [стр. xiii] импульс может быть дан философии и религиозной мысли этим возвращением Джорджа Беркли, под эгидой Оксфордского университета, в начале двадцатого века. Его читатели, по крайней мере, окажутся в обществе одной из самых привлекательных личностей в английской философии, который также входит в число тех мыслителей, кто является мастером английской литературы – Фрэнсис Бэкон и Томас Гоббс, Джордж Беркли и Дэвид Юм.
А. Кэмпбелл Фрейзер.
Гортон, Хоуторнден, Мидлотиан,
Март 1901 года.
[Стр. xxiii]
Джордж Беркли, от редактора.
I. Ранние годы (1685-1721).Под конец правления Карла II некий Уильям Беркли, согласно достоверному преданию, занимал коттедж при старинном Замке Дизерт в той части графства Килкенни, которую орошает река Нор. О самом этом Уильяме Беркли известно мало, кроме того, что он был ирландцем по рождению и англичанином по происхождению. Говорят, его отец перебрался в Ирландию вскоре после Реставрации, в свите своего предполагаемого родственника, лорда Беркли из Страттона, когда тот был лордом-наместником. Жена Уильяма Беркли, похоже, была ирландских кровей и состояла в каком-то отдалённом родстве с семьёй Вульф, героя Квебека. Именно в этом скромном жилище в долине Нор 12 марта 1685 года и родился Джордж, старший из их шести сыновей.
В зафиксированной семейной истории этих беркли из Дизерта нет ничего, что помогло бы объяснить необычную личность и карьеру старшего сына. Родители не оставили о себе следа и не появляются ни в каких сохранившихся семейных записях. Вероятно, они оказались в долине Нор среди семей английского происхождения, которые в четверть века, предшествовавшую рождению Джорджа, обосновывались в Ирландии. Семья, судя по всему, не была богатой, но признавалась как принадлежащая к джентри. Роберт, пятый сын, [стр. xxiv] стал ректором Миддлтона и генеральным викарием Клойна; а другой сын, Уильям, имел офицерский патент в армии. Согласно Регистру Тринити-колледжа, один из сыновей родился «под Терлсом» в 1699 году, а Томас, младший, родился в Типперэри в 1703 году, так что, возможно, семья переехала из Дизерта после рождения Джорджа. В том, что можно узнать о младших сыновьях, мы почти не находим следов сочувствия религиозному и философскому гению старшего.
Об этом знаменитом старшем сыне в те ранние годы у нас есть значимый автобиографический фрагмент в его «Записной книжке»: «Я был недоверчив в восемь лет от роду и, следовательно, по природе склонен к новым учениям». В двенадцатилетнем возрасте мы находим мальчика в школе Килкенни. Регистр фиксирует его поступление туда летом 1696 года, когда его сразу определили во второй класс, что, кажется, указывает на прекосность, ибо это едва ли не единственный такой случай. Последующие четыре года он провёл в Килкенни. Школа была высоко известна своими учёными преподавателями и знаменитыми учениками; среди её бывших воспитанников были поэт Конгрив и Свифт, учившиеся почти на двадцать лет раньше Джорджа Беркли; среди его однокашников был Томас Прайор, его друг и корреспондент на всю жизнь. Во времена Беркли и Прайора главным мастером был доктор Хинтон, и школа всё ещё страдала от последствий «войны в Ирландии», последовавшей за Славной революцией.
Беркли в школе Килкенни едва различим, и у нас нет возможности оценить его умственное состояние, когда он её покинул. Согласно преданию, в школьные годы он имел обыкновение питать своё воображение воздушными видениями и романтическими историями, – предание, которое, возможно, возникло гораздо позже из-за популярных недопониманий его идеализма. Едва различимый в Килкенни, всего несколько лет спустя он стал заметной фигурой на острове, который тогда начинал участвовать в интеллектуальном движении современного мира, заняв [стр. xxv] своё место как классик английской литературы и как самый проницательный и пылкий из современных мыслителей, говорящих по-английски.
В марте 1700 года, в возрасте пятнадцати лет, Джордж Беркли поступил в Тринити-колледж в Дублине. Это был его дом на протяжении более двадцати лет. Поначалу он был загадкой для обычного студента. Некоторые, как нам рассказывают, объявляли его величайшим тупицей, другие – величайшим гением в Колледже. Для невнимательных судей он казался праздным мечтателем; вдумчивые же восхищались его тонким умом и красотой характера. В студенческие годы – кроткий и простодушный юноша, неискушённый в людских нравах, живой, остроумный, сатиричный, пытливый неожиданными путями, часто парадоксальный, он, несмотря на непонимание, шёл своей собственной дорогой, полный простоты и энтузиазма. В 1704 году (год смерти Локка) он получил степень бакалавра искусств, а в 1707 стал магистром, когда его избрали в члены совета (Fellowship), «единственная награда за учёность, которую то королевство могло пожаловать».
В Тринити-колледже юноша оказался на гребне современной мысли, ибо «новая философия» Ньютона и Локка как раз тогда захватывала Университет. «Опыт о человеческом разумении» Локка, опубликованный в 1690 году, уже был в моде. Это раннее признание Локка в Дублине было в основном заслугой Уильяма Молинё, преданного друга Локка, юриста и члена ирландского парламента, большого приверженца экспериментальных методов. Декарт тоже, со своим скептическим критицизмом в отношении человеческих верований, но склонный одухотворять силы, обычно приписываемые материи, был другим признанным авторитетом в Тринити-колледже; и Мальбранш также был известен. Гоббс был привычным представителем окончательно материалистической концепции существования, воспроизводя в современных формах атомизм Демокрита и этику Эпикура. Превыше всего, Ньютон был признанным мастером в физике, чьи «Начала», изданные на [стр. xxvi] три года раньше «Опыта» Локка, преобразовывали представления образованных людей об их окружении, подобно ещё более всеобъемлющему закону физической эволюции в девятнадцатом веке.
Джон Толанд, ирландец, один из самых ранних и способных представителей новой секты вольнодумцев, появился в Дублине в 1696 году как автор книги «Христианство без тайн». Книга была осуждена университетскими сановниками и почтенным духовенством с даже более чем ирландским пылом. Это было начало полемики, длившейся более половины восемнадцатого века в Англии, в которой Беркли вскоре стал видной фигурой; и она была возобновлена позже, с большей интеллектуальной силой и в более изящной литературной форме, Дэвидом Юмом и Вольтером. Столкновение с Толандом примерно во время поступления Беркли в колледж, возможно, пробудило его интерес. Предполагалось, что Толанд учит, что материя вечна и что движение – её неотъемлемое свойство, в которое, в конечном счёте, могут быть разрешены все изменения, представленные во внешнем и внутреннем опыте человека. Вся жизнь Беркли была постоянным протестом против этих догм. Провостом Тринити-колледжа в 1700 году был доктор Питер Браун, уже вступивший в полемику с Толандом; много позже, будучи епископом Корка, он спорил с Беркли о природе человеческого познания Бога. Архиепископом Дублина в первые годы восемнадцатого века был Уильям Кинг, до сих пор помнимый как философ-богослов, чья книга о происхождении зла, опубликованная в 1702 году, критиковалась Бойлем и Лейбницем.
Таким образом, Дублин в те годы был местом, где прилежный юноша, который «был недоверчив в восемь лет от роду», мог быть склонен размышлять о серьёзных вопросах относительно конечного смысла его видимого окружения и самосознающей жизни, к которой он пробуждался. Ограничена ли вселенная существования видимым миром, и является ли материя действительно активной силой в существовании? Является ли Бог [стр. xxvii] корнем и центром всего реального, и если да, то что подразумевается под Богом? Может ли Бог быть благом, если мир – это смесь добра и зла? Подобные вопросы были готовы встретить пытливого юношу из Килкенни в его первые годы в Дублине.
Одним из первых его увлечений в Колледже стала математика. В 1707 году он анонимно опубликовал два латинских трактата: «Арифметика» и «Математические мелочи». Эти работы интересны тем, что демонстрируют его интеллектуальные склонности в возрасте двадцати лет. Он утверждает, что написал их за три года до публикации. Его любовь к геометрии и алгебре также видна в его студенческой «Записной книжке».
Эта недавно обнаруженная «Записная книжка» проливает поток света на состояние ума Беркли между его двадцатым и двадцать четвертым годом. Это чудесное откровение; собственноручная запись его мыслей и чувств, когда он впервые попал под вдохновение новой концепции о природе и назначении материального мира. Она тогда с трудом пробивалась к адекватному выражению, и в ней восторженный юноша, казалось, находил духовную панацею от заблуждений и смятений в философии. Она была способна, как он верил, быстро покончить с атеистическим материализмом и могла обойтись без аргументов против скептиков в защиту реальности опыта. Зависящее от ума существование материального мира и его истинная функция во вселенной конкретной реальности должны были быть раскрыты в свете нового, преобразующего, самоочевидного Принципа. «Я не удивляюсь своей проницательности в обнаружении этой очевидной и изумительной истины. Я скорее удивляюсь своей глупой невнимательности, что не открыл её раньше – ведь не нужно быть колдуном, чтобы это увидеть». Страницы «Записной книжки» дают выход стремительно формирующимся мыслям о вещах чувств и «окружающем пространстве» юноши, вступающего в рефлексивную жизнь, в обществе Декарта [стр. xxviii] и Мальбранша, Бэкона и Гоббса, и, превыше всего, Локка и Ньютона; юноши, пытающегося перевести в разумность свою веру в реальность материального мира и Бога. Под влиянием этой новой концепции он видит мир как человек, пробуждающийся от смутного сна. Революцию, которую он хотел начать, он предвидел, что встретит сопротивление. Люди любят думать и говорить о вещах так, как они привыкли: они обижаются, когда их просят променять это на то, что кажется им абсурдным, или, по крайней мере, когда перемена кажется бесполезной. Но, несмотря на насмешки и недовольство мира, давно привыкшего подменять пустые слова живыми мыслями, он решает освободиться от своего бремени, однако с тактичной уступчивостью искусного адвоката; ибо он характерно напоминает себе, что тот, «кто желает склонить другого к своим собственным мнениям, должен поначалу казаться созвучным с ним и подыгрывать ему в его собственной манере говорить».
В 1709 году, когда ему было двадцать четыре года, Беркли представил себя миру пустых словесных резонёров как автор того, что он скромно называет «Опыт towards новой теории зрения». Он был посвящён сэру Джону Персивалю, с которым он затем переписывался более двадцати лет; но мне не удалось обнаружить истоков их дружбы. «Опыт» был первопроходцем, призванным проложить путь к раскрытию Тайны, бременем которой он был обременён, дабы не шокировать мир внезапным откровением. В этом прелюдии он пытается заставить читателя признать, что в обычном зрении мы всегда интерпретируем зрительные знаки; так что нам ежедневно предстаёт перед глазами то, что, по сути, является понятным естественным языком; так что во всём нашем общении с видимым миром мы находимся в общении с всепроникающим активным Разумом. Мы читаем отсутствующие данные осязания и других чувств на языке их зрительных знаков. И сами [стр. xxix] зрительные знаки, которые являются непосредственными объектами зрения, по необходимости зависят от чувствующего и воспринимающего ума; что бы ни было с осязаемыми реальностями, которые означают зрительные данные, – факт, очевидный из нашего опыта, когда мы пользуемся зеркалом. Материальный мир, по крайней мере, поскольку он является видимым, реален, только будучи реализован живыми и видящими существами. Зависящие от ума зрительные знаки, которые мы осознаём, постоянно говорят нам о невидимом и удалённом мире осязаемых реальностей; и благодаря естественной связи зрительных знаков с их осязаемыми значениями, мы способны при видении практически воспринимать не только то, что удалено в пространстве, но и предвосхищать будущее. Книга Vision в буквальном смысле является Книгой Пророчеств. Главный урок этого пробного «Опыта о зрении» подводится следующим образом:
«В целом, я думаю, мы можем справедливо заключить, что собственные объекты Vision составляют Универсальный Язык Природы; посредством которого мы научаемся, как регулировать наши действия, чтобы достичь тех вещей, которые необходимы для сохранения и благополучия наших тел, а также избегать всего, что может быть вредно и губительно для них. И способ, которым они означают и указывают нам на объекты, находящиеся на расстоянии, тот же, что и у языков и знаков, установленных людьми; которые предполагают означаемые вещи не по какому-либо подобию или тождеству природы, но лишь по привычной связи, которую опыт заставил нас наблюдать между ними. Предположим, тому, кто всегда был слеп, его проводник говорит, что после того, как он продвинется на столько-то шагов, он окажется на краю пропасти или будет остановлен стеной; не должно ли это казаться ему весьма удивительным и поразительным? Он не может представить, как смертным возможно строить такие предсказания, которые ему показались бы столь же странными и необъяснимыми, как пророчества кажутся другим. Даже [стр. xxx] те, кто наделён способностью зрения, могут (хотя привычка делает это менее заметным) найти в этом достаточный повод для изумления. Удивительное искусство и устройство, с которыми оно приспособлено для тех целей и задач, для которых оно, по-видимому, было предназначено; огромная протяжённость, число и разнообразие объектов, которые сразу, с такой лёгкостью, быстротой и удовольствием, им предлагаются – всё это даёт предмет для многих приятных размышлений и может, если что и может, дать нам некоторый проблеск аналогичного предведения о вещах, помещённых за пределами определённого открытия и постижения нашего настоящего состояния».