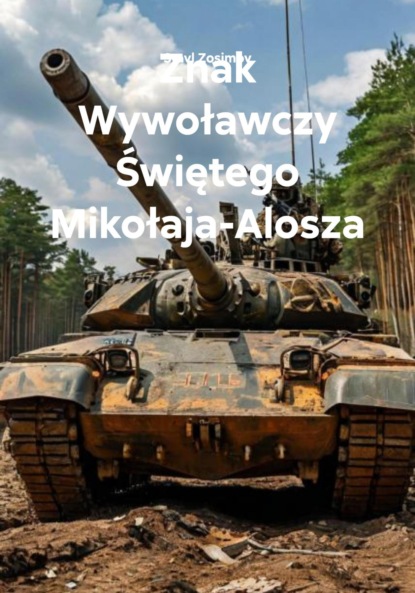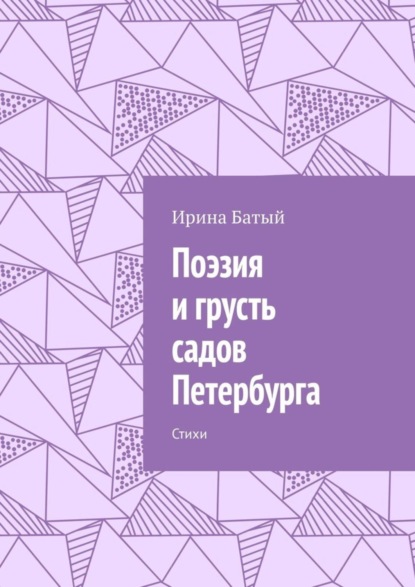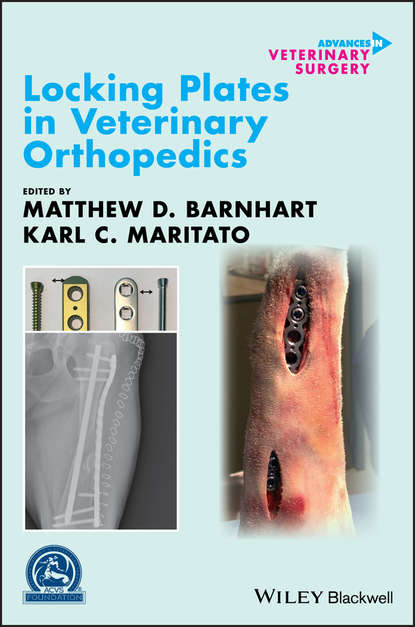Сочинения Джорджа Беркли. Том 1 из 4: Философские работы, 1705-21
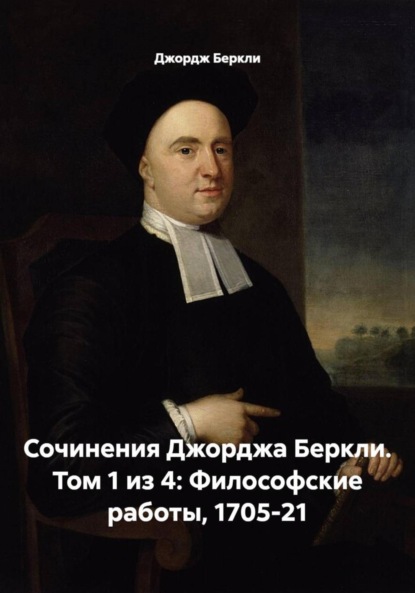
- -
- 100%
- +
Вскоре после того, как он обосновался в Лондоне, плод его исследований в Род-Айленде был представлен миру в «Семи диалогах Алкифрона, или Мелком философе». Здесь философское вдохновение его ранних лет направлено на поддержание веры в Божественный Нравственный Порядок и в христианское Откровение. «Алкифрон» – самое длинное и, пожалуй, наиболее отделанное в литературном отношении его произведение, непревзойденное в живых чертах иронии и сатиры. Однако если рассматривать его как философское оправдание религии в противовес современному агностицизму, то можно склониться к суждению мистера Лесли Стивена, что это «наименее достойное восхищения из всех достойных восхищения произведений его автора». Как мы видели, секта вольнодумцев рано стала объектом насмешек и сарказма Беркли. Они претендовали на широкое интеллектуальное видение, но были слепы к глубоким реальностям вселенной; они приписывали исключительно себе свободу мысли, хотя их мышление было ограничено узкими рамками наших чувственных данных. «Трактат о принципах человеческого знания», «Три разговора между Гиласом и Филонусом» и «О движении» его ранних лет были предназначены для того, чтобы ясно выявить абсолютную зависимость мира, предстающего нашим чувствам, от Вездесущего Духа; и необходимое подчинение всех изменений в нашем окружении непосредственному действию или провидению Бога. Хвастливое «вольнодумство» было на самом деле узким атеизмом, так он полагал, в котором бессмысленная Материя узурпировала место, принадлежащее по праву разума Богу, и он использовал разум, чтобы раскрыть Всемогущий Разум в и за феноменами, предстающими чувствам в бессильной природной последовательности.
Причины широко распространенного нравственного разложения Старого Света, которые так глубоко затронули Беркли, по-видимому, были заново осмыслены им во время уединенной жизни в Род-Айленде. Упадок нравов объяснялся обожествлением Материи: вытекающая из этого жизнь чувственных удовольствий объясняла упадок религии. То, что порок вреден, вольнодумцы вроде Мандевиля доказывали как вульгарное заблуждение и предлагали ошибочную демонстрацию его полезности. То, что добродетель внутренне прекрасна, учил Шефтсбери; но Беркли считал, что отвлеченная красота, которой довольствовались «мелкие философы», не способна побудить обычных людей к самопожертвующим действиям; ибо это предполагает преданность Совершенной Личности, которой добро в конечном счете воздается. Одна лишь религия вдохновляет более широкую и высокую жизнь, представляя распределительное правосудие, олицетворенное на троне вселенной, вместо абстрактной добродетели.
Переломный момент в «Алкифроне» – в видении человеком Бога. Это настойчиво проводится в Четвертом диалоге. Вольнодумец утверждает, что «понятие о Божестве или некоей невидимой силе есть из всех предрассудков самый непобедимый; самый яркий пример веры без основания для веры». Он требует доказательства – «такого доказательства, какого каждый здравомыслящий человек требует от факта… Если бы кто-то спросил, почему я верю, что существует король Великобритании? Я мог бы ответить: потому что я видел его. Или король Испании? Потому что я видел тех, кто видел его. Но что до этого Царя царей, я не видел Его сам, и никто другой, кто когда-либо видел Его». На что Эвфранор отвечает: «Что, если окажется, что Бог действительно говорит с человеком; удовлетворит ли это вас? Что, если станет ясно, что Бог говорит с людьми через посредство и использование произвольных, внешних, чувственных знаков, не имеющих ни сходства, ни необходимой связи с вещами, которые они обозначают и на которые указывают; если окажется, что бесчисленными комбинациями этих знаков нам открывается и становится известным бесконечное разнообразие вещей; и что мы тем самым наставляемся или информируемся об их различных природах; что нас учат и увещевают, чего избегать и к чему стремиться; и направляют, как регулировать наши действия и как действовать в отношении вещей, удаленных от нас, как во времени, так и в пространстве: удовлетворит ли это вас?» Соответственно, Эвфранор приступает к тому, чтобы показать, что Видимая Природа есть Язык, на котором Универсальная Сила, непрерывно действующая, говорит с нами всеми, способом, сходным с тем, как наши ближние говорят с нами; так что у нас есть столько же (даже больше) оснований верить в существование Универсальной Личности, которая является Говорящим, сколько у нас есть оснований верить в существование окружающих нас людей; которые становятся известны нам, когда они тоже используют чувственные символы, в словах и действиях, через которые мы обнаруживаем, что мы не одиноки во вселенной. Ибо люди – действительно живые духи: их тела – лишь знак их духовной личности. И так же обстоит с Богом, Который также открывается в видимом мире как Дух. «В строгом смысле, – говорит Эвфранор, – я не вижу Алкифрона, но лишь такие видимые знаки и приметы, которые предполагают и выводят существование той невидимой мыслящей субстанции или души. Точно так же, таким же самым образом, мне кажется, что, хотя я не могу очами плоти узреть невидимого Бога, все же я в строжайшем смысле вижу и воспринимаю всеми моими чувствами такие знаки и приметы… которые предполагают, указывают и демонстрируют невидимого Бога столь же достоверно и, по крайней мере, с той же очевидностью, как и любые другие знаки, воспринимаемые чувствами, предполагают мне существование вашей души, духа или мыслящего принципа; в чем я убежден лишь немногими знаками или эффектами и движениями одного маленького организованного тела; тогда как я во все времена и во всех местах воспринимаю чувственные знаки, которые доказывают бытие Бога». Короче говоря, Бог есть живая Душа Вселенной; как вы и я есть живые души, которые поддерживают наши тела и их органы в значимом движении. Мы можем истолковать характер Бога в истории вселенной, подобно тому как мы можем истолковать характер нашего ближнего, наблюдая его слова и внешние действия.
Алкифрон был потрясен. «Вы удивлены, узнав, что Бог всегда рядом с нами и что мы живем, движемся и существуем благодаря Ему?» – спросил Эвфранор. «Вы, кто раньше считал странным, что Бог покинул бы мир без свидетелей, теперь находите странным, что Его свидетельство так полно и ясно», – продолжил он. «Да, это правда», – ответил Алкифрон. «Я никогда не думал, что можно видеть Бога так же ясно, как любого человека, и что Он ежедневно обращается к нам на понятном и ясном языке».
Хотя это рассуждение удовлетворило Алкифрона, другие могут счесть его неубедительным. То, как человек способен обнаружить существование других лиц и даже значение конечной личности, сами по себе вопросы, полные спекулятивных трудностей. Но, оставляя это в стороне, аналогия между отношением человеческого духа к его телу и отношением Вездесущего и Всемогущего Духа к Вселенной вещей и лиц несостоятельна в нескольких отношениях. Предполагается, что Бог постоянно творит мир постоянным и непрерывным Провидением, и Его Всеведение объемлет все его конкретные отношения: тело человека не находится в абсолютной зависимости от его собственной силы и попечения; и даже его научное знание о нем, в нем самом и его отношениях, скудно и несовершенно, так как его власть над ним ограничена и обусловлена. Затем то немногое, что человек постепенно узнает о том, что происходит в окружающей вселенной, зависит от его чувств: Всеведение объемлет Беспредельность и Вечность (так мы полагаем) в единой интуиции. Наши тела, более того, суть видимые вещи: вселенная, этот организм Бога, наполнена лицами, чему нет соответствия внутри организма, который открывает одного человека другому.
Но это не все. После того как Эвфранор нашел, что Универсальная Сила есть Универсальный Дух, это все еще неадекватный Бог; ибо что мы хотим знать, так это то, какой это Дух. Является ли Бог всемогущим или ограниченным в силе, рассматриваемый этически, справедливым или несправедливым в Своем обращении с лицами; добрым или злым, согласно высшему достигнутому пока понятию добра; Богом любви или всемогущим дьяволом? Я вывожу характер моего ближнего из его слов и действий, явленных чувствам в постепенном внешнем раскрытии его жизни. Меня просят вывести характер Вездесущего Духа из Его слов и действий, проявленных во вселенной вещей и лиц. Но мы не должны приписывать Причине больше, чем она открывает о себе в своих следствиях. Бог и люди alike познаются по производимым ими эффектам. Универсальная Сила, на этом условии, праведна, справедлива и любяща в той степени, в какой эти концепции подразумеваются в Его видимом воплощении: утверждать больше или иное, чем это, на основе одной лишь аналогии, – значит либо предаваться безосновательным догадкам, либо слепо подчиняться догме и авторитету.
Теперь вселенная, насколько она входит в сферу человеческого опыта на этой планете, полна страдания и нравственного беспорядка. «Религиозная гипотеза» совершенно праведного и благожелательного Бога предлагается здесь, чтобы объяснить явления, которые вселенная представляет нам. Но означают ли они точное распределительное правосудие? Не кажется ли видимая природа по видимости жестокой и неумолимой? Если мы выводим жестокость в характере человека, потому что его телесные действия причиняют незаслуженные страдания, не должны ли мы, по этой аналогии, подобным же образом вывести относительно характера Высшего Духа, проявляемого в прогрессивной эволюции универсального организма?
Мы находим невозможным определить с абсолютной уверенностью характер даже наших ближних, из их несовершенно истолкованных слов и действий, так что каждый человек в большей или меньшей степени есть загадка для своих собратьев. Загадка углубляется, когда мы пытаемся прочесть характер животных – истолковать мотивы, определяющие открытые действия собак или лошадей. И если бы мы были способны общаться видимыми знаками с обитателями других планет, с каким гораздо большим трудом мы бы делали выводы из их видимых действий относительно их характера? Но если это так, когда мы используем данные чувств для прочтения характера конечных лиц, как же бесконечно должна быть трудна задача прочтения характера Вечного Духа, в и через постепенную эволюцию вселенной вещей и лиц, которая в этом рассуждении предполагается Его телом; и история той вселенной – факты Его биографии, в и через которые Он вечно открывает Себя! Ибо мы ничего не знаем о безначальном и бесконечном. Вселенная лиц предполагается не имеющей конца; и я не знаю, почему ее эволюция должна предполагаться имевшей начало, или что вообще было время, когда Бог был не проявлен для конечных лиц.
Обратимся ли мы в этих обстоятельствах с Эвфранором, в Пятом и Шестом диалогах, к объявленному откровению характера Универсального Разума, представленному в чудесном откровении, вдохновенными пророками и апостолами, которые выдвигаются как авторитеты, способные говорить безошибочно о характере Бога? Если весь ход природы, или бесконечная эволюция событий, есть Божественный Дух, явленный в вездесущей деятельности, то какое место остается для какого-либо иного, менее регулярного откровения? Вселенная общего опыта, подразумевает Беркли, по сути чудесна и, следовательно, абсолютно совершенна. Совместимо ли со справедливостью, благожелательностью и любовью к добру во всех нравственных агентах ради него самого, что христианское откровение было так долго отложено и до сих пор так неполно известно? Не является ли существование порочных лиц на этой или любой другой планете, порочных людей или дьяволов, темным пятном в видимой жизни Бога? Не означает ли совершенная доброта в Боге восстановление доброты в людях, ради нее самой, независимо от их заслуг; и не должна ли Всемогущая Доброта, бесконечно противоположная всякому злу, либо обратить к доброте все существа во вселенной, которые сделали себя дурными, либо же избавить вселенную от их вечного присутствия во все возрастающей порочности?
Скептическая критика, подобная этой, нашла отражение в философских размышлениях более позднего периода, чем у Беркли и Алкифрона. Она прослеживается у Дэвида Юма и Вольтера, а также в агностицизме девятнадцатого века. Возможно, Эвфранор был слишком поспешен, принимая на веру существование Бога, чей характер, по его мнению, должен был определяться природой и человеком. Но разве не стоит нам искать истоки достоверного опыта глубже, чем данные чувственного восприятия? Не следует ли нам обратить внимание на предпосылки, которые мы сознательно или неосознанно принимаем как данность во всех наших взаимодействиях с окружающей средой?
На одном лишь физическом рассуждении, подобном эвфраноровскому, праведная любовь Бога есть неоправданный вывод, и она даже, кажется, противоречит видимым фактам, представленным в истории мира. Но если Всемогущая Доброта должна априори приписываться Универсальному Разуму, как необходимое условие для того, чтобы человек имел надежное взаимодействие любого рода с природой; если это есть первичный постулат, необходимый для существования истины любого рода – тогда «религиозная гипотеза», что Бог есть Добро, согласно высшему понятию добра, есть не безосновательная фантазия, но фундаментальное предприятие веры, в котором человек должен жить. Она должна стоять в разуме; если только не может быть продемонстрировано, что смешение добра и зла, которое представляет вселенная, необходимо противоречит этой фундаментальной предпосылке: и если так, то человек потерян в пессимистическом пирронизме и не может утверждать ничего ни о чем.
Религиозный альтруизм, однако неадекватный, который Беркли предложил в «Алкифроне», наделал некоторого шума в время своего появления, хотя его теистический аргумент был слишком тонок, чтобы быть популярным. Концепция видимого мира как Божественного Визуального Языка была «встречена насмешками теми, кто делает насмешку испытанием истины», хотя с тех пор она проложила себе путь. «Я не видел декана Беркли, – пишет поэт Гей Свифту в мае после возвращения Дина и вскоре после появления «Алкифрона», – но я читал его книгу и многими частями восхищаюсь; но в целом думаю с вами, что она слишком спекулятивна». Уорбертон, восхищаясь Беркли, не мог постичь его философию, а Хоадли проявил менее дружелюбный дух. «Письмо от сельского священника», приписываемое лорду Херви, «Спорусу» Попа, было одной из нескольких скоропреходящих атак, которые встретил «Мелкий философ» в год после его появления. Три других критика, более достойных рассмотрения, упомянуты в одном из писем Беркли из Лондона его американскому другу Джонсону в Стратфорде: «Что до книги епископа Корка и другой книги, на которую вы ссылаетесь, автором которой является некий Бакстер, обе они здесь очень мало учитываются; по каковой причине я не принимал их в публичное внимание. Отвечать на возражения, уже отвеченные, и повторять те же вещи, есть задача как ненужная, так и неприятная. И я не обратил бы внимания на то Письмо о зрении, если бы оно не было напечатано в газете, что придало ему ход и распространило его по королевству. Кроме того, я обнаружил, что теория зрения была несколько темна для большинства людей; по каковой причине я не был недоволен возможностью объяснить ее». Объяснение было дано в «Теории визуального языка, защищенной» в январе 1733 года, как дополнение к «Алкифрону». Его пятно – тон полемической горечи, направленной против Шефтсбери.
Хотя Беркли «не принимал в публичное внимание» книгу «епископа Корка», она затрагивала великий вопрос, который периодически пробуждал полемику и был поводом для взаимного непонимания среди полемистов прошлых веков. «Познаваем ли Бог человеком; или религия должна быть посвящением объекту, который непознаваем?» В одном из своих первых писем лорду Персивалю, как мы видели, Беркли высказал порицание по поводу проповеди архиепископа Дублинского, которая, казалось, отрицала, что у Бога есть доброта или разумение, так же как и ступни или руки. Несколько схожее мнение приписывалось епископу Брауну в его ответе Толанду, а впоследствии в 1728 году в его «Процедуре и пределах человеческого понимания».
Это задевало за живое конечное представление Беркли о вселенной, как реализуемой только в, и, следовательно, необходимо зависимой от, живой мысли. Мы вспоминаем знаменитую аналогию Спинозы. Если вездесущий и всемогущий Разум, на котором настаивал Эвфранор, может быть назван «разумом» лишь метафорически и может быть назван «добрым» лишь тогда, когда термин используется без человеческого значения, то может показаться безразличным, имеем ли мы непознаваемую Материю или непознаваемый Разум в корне вещей и лиц. Оба есть пустые слова. Сила, универсально действующая, одинаково непостижима, одинаково непригодна быть объектом поклонения в конечном предприятии веры, используем ли мы термин Материя или термин Разум. Вселенная не объяснена и не поддерживается «разумом», который есть разум лишь метафорически. Называть это «Богом» – значит утешать нас пустой абстракцией. Самый мелкий философ готов согласиться с Алкифроном, что «есть Бог в этом неопределенном смысле»; поскольку из такого описания Бога ничего не может быть выведено относительно поведения или религии.
Епископ Корка ответил на строгие замечания Эвфранора в «Мелком философе». Он квалифицировал и объяснил свои прежние высказывания в каких-то двухстах скучных страницах своей «Божественной аналогии», которые едва ли затрагивают суть дела. Вопрос, находящийся на рассмотрении, – это тот, который лежит в основе современного агностицизма. Он был снова поднят в Британии в девятнадцатом веке, с более глубоким проникновением, сэром Уильямом Гамильтоном; за ним последовал декан Мансель, в полемике с Ф. Д. Морисом, с точки зрения архиепископа Кинга и епископа Брауна, в философском оправдании таинств христианской веры; мистером Гербертом Спенсером и Хаксли в мелкой философии, которая была углублена критикой Юмом обоснования теизма у Беркли.
«Исследование природы человеческой души» Эндрю Бакстера, упомянутое в письме Беркли Джонсону, появилось в 1733 году. В нем есть глава о «Схеме декана Беркли против существования Материи и Материального мира», которая заслуживает упоминания, поскольку является самым ранним обстоятельным критическим разбором Нового принципа, хотя к тому моменту он был представлен миру уже более двадцати лет. Название главы показывает неполное понимание Бакстером положения, которое он пытается опровергнуть. Оно наводит на мысль, что Беркли доказывал несуществование вещей, которые мы видим и осязаем, вместо того чтобы доказывать их необходимую зависимость от или подчиненность воспринимающему Сознанию, поскольку они являются конкретными реальностями. Более того, Бакстер был шотландцем; и его критика интересна как предвестник затянувшегося обсуждения «теории идей» Ридом и его друзьями, а позже – Гамильтоном. Но книга Бакстера не была первым признаком влияния Беркли в Шотландии. Дугалд Стюарт сообщает нам, что «новизна парадокса Беркли очень сильно привлекла внимание группы молодых людей, в то время проходивших обучение в Эдинбурге, которые создали Общество с особой целью – попросить у него разъяснения некоторых частей его теории, которые казались им выраженными неясно или двусмысленно. К этой переписке добрый и превосходный прелат, кажется, отнесся со всяческим поощрением; и мне рассказывали из самых надежных источников, что он имел обыкновение говорить, что его рассуждения нигде не были поняты лучше, чем этим клубом молодых шотландцев». Таким образом, сначала через это Общество, а затем через Юма и Рида, Беркли стоит у истоков философии в Шотландии.
Два года, проведенные в Лондоне в состоянии неважного здоровья и занятий писательским трудом, подводят итог тому, что можно назвать американским периодом жизни Беркли. В начале 1734 года письма к Прайору открывают новую веху в его истории. Он был назначен епископом Клойна на юге Ирландии, и теперь нам предстоит последовать за ним в отдаленный регион, который стал его домом на восемнадцать лет. Интерес королевы-философа и, возможно, некоторая компенсация за разочарование с Бермудами могут объяснить появление метафизического и социального идеалиста в месте, где он сиял как звезда первой величины в Ирландской церкви восемнадцатого века.
III. Поздние годы (1734-1753).В мае 1734 года Беркли стал епископом Клойнским в церкви Святого Павла в Дублине. В Ирландии он появлялся редко, за исключением редких визитов, и провел там более двадцати лет. Вернувшись, он почти два десятилетия провел в уединении в своей отдаленной епархии. Эта жизнь соответствовала его склонности к созерцанию, которая зародилась в Род-Айленде. Его епархия включала восточную и северную части графства Корк. На западе она граничила с гаванью Корка, на востоке – с живописной Блэкуотер и горами Уотерфорда. Южная граница проходила по морю, которое находилось всего в двух милях от епископской резиденции в Клойне.
Как только он обосновался, он возобновил учебу «с неослабевающим вниманием», но по-прежнему при неважном здоровье. Путешествия стали для него обременительными, и в Клойне он был почти так же удален от мыслящего мира, как и в Род-Айленде. Корк занял место Ньюпорта; но Корк находился в двадцати милях от Клойна, тогда как Ньюпорт был всего в трех милях от Уайтхолла. Его соседом-епископом в Корке был епископ Браун, критик «Алкифрона». Айзек Джервис, впоследствии декан Туама, часто оживлял «дом священника» в Клойне своим остроумием и связями с большим светом. Секер, епископ Бристольский, и Бенсон, епископ Глостерский, время от времени обменивались с ним письмами, а переписка, как и прежде, поддерживалась с Прайором в Дублине и Джонсоном в Стратфорде. Но нет никаких следов общения со Свифтом, доживавшим свою несчастную старость, или с Попом, почти единственным оставшимся в живых представителем блистательного общества прежних лет. Нам действительно рассказывают, что красота Клойна была так описана пером, которое в былые дни описывало Искью, барду из Твикенема, что Поп был почти готов посетить его. И в письме от Секера в феврале 1735 года содержится такой отрывок: «Ваш друг мистер Поп публикует небольшие стихотворения то и дело, полные большого остроумия и немалой едкости». «Наш общий друг, доктор Батлер, – добавляет он, – почти завершил серию размышлений о достоверности религии, основанной на ее аналогии с устройством и ходом природы, которые, я верю, в свое время вы прочтете с удовольствием». «Аналогия» Батлера появилась в следующем году. Но я не нашел следов переписки между Беркли и их «общим другом»; двумя самыми знаменитыми религиозными мыслителями англиканского вероисповедания.
Когда Беркли покидал Лондон в 1734 году, он находился на пороге спора, который казался математическим, но на самом деле был метафизическим. Вдохновением для него послужил Седьмой диалог из «Алкифрона». В одном из писем к Прайору он признался, что из-за болезни не мог читать, но его мысли оставались ясными. Чтобы отвлечься, он размышлял о математических вопросах, которые могли привести к важным открытиям. Результатом этих размышлений стал «Аналитик». Вскоре разгорелась полемика с участием ведущих математиков. «Mathematica exeunt in mysteria» могло бы стать девизом «Аналитика». В нем Беркли доказывает, что предпосылки в математике так же таинственны, как и у теологов и метафизиков.
Математики не могут перевести на совершенно понятный язык мысли свои собственные доктрины о флюксиях. Если знание человеком Бога коренится в тайне, то то же самое можно сказать и о математическом анализе. Чистая наука в конечном счете теряется в положениях, которые полезно регулируют действие, но которые не могут быть постигнуты. Такова основная мысль аргумента в «Аналитике»; но, возможно, склонность Беркли к крайним выводам и к словесным парадоксам завела его на сомнительные позиции в полемике, порожденной «Аналитиком». Вместо конечной несовершенной постижимости он, кажется, приписывает ньютоновским флюксиям абсолютное противоречие. Бакстер в своем «Исследовании» утверждал, что вещи в книге Беркли «Принципы» заставили автора «подозревать, что даже математика может оказаться не слишком надежным знанием в своей основе». Метафизический аргумент «Аналитика» был скрыт в облаке математики.
Общественное положение Ирландии привлекло внимание Беркли почти сразу после того, как он обосновался в Клойне. Его окружало большое коренное ирландское население и небольшая группа английских колонистов. Туземцы, долгое время управляемые в интересах чужеземцев, так и не научились проявлять инициативу и управлять собой. Самостоятельность, которую Беркли проповедовал пятнадцать лет назад как средство «предотвращения гибели Великобритании», была в Ирландии еще более необходима, где пренебрегали простейшими принципами социальной экономии. Это было положение дел, способное взволновать того, кто был слишком независим, чтобы позволить ограничить свои устремления обычными рамками ирландского епископата, и кто не мог забыть излюбленный нравственный принцип своей жизни.
Социальный хаос в Ирландии стал поводом для того, что для некоторых может оказаться самым интересным из произведений Беркли. Его мысли характерным образом нашли выход в серии проницательных практических вопросов. Первая часть «Вопрошающего» появилась в 1735 году анонимно, под редакцией доктора Маддена из Дублина, который вместе с Прайором недавно основал Общество для поощрения промышленных искусств в Ирландии. Вторая и третья части были опубликованы в течение двух последующих лет. «Речь к магистратам, вызванная чрезвычайным распутством и безрелигиозностью времени», появившаяся в 1736 году, была еще одной попыткой с той же филантропической целью. И единственный значительный перерыв в его уединенной жизни в Клойне за восемнадцать лет проживания там произошел, когда он на несколько месяцев отправился в Дублин в 1737 году, чтобы послужить на благо Ирландии в Ирландской палате лордов.