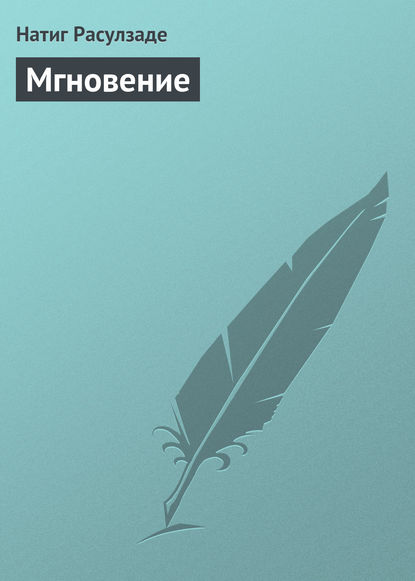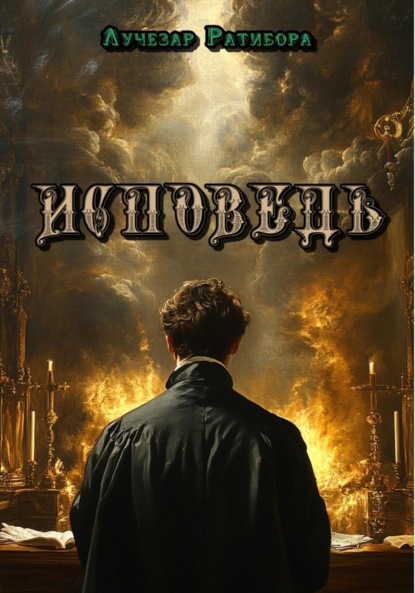Сочинения Джорджа Беркли. Том 1 из 4: Философские работы, 1705-21
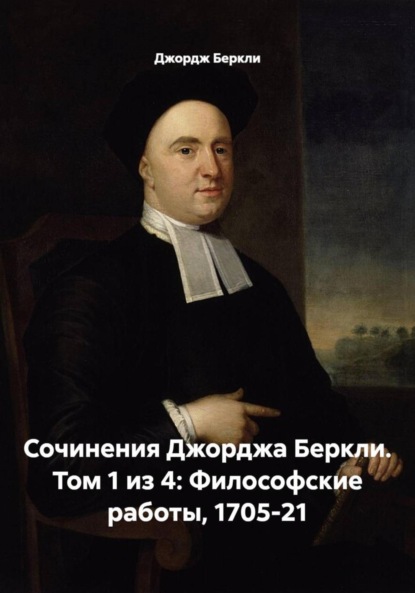
- -
- 100%
- +
Его метафизика, поначалу встреченная насмешками, теперь начинала получать более серьезное отношение. Шотландец уже признал ее. В 1739 году другой, более знаменитый шотландец, Дэвид Юм, так отозвался о Беркли в одном из начальных разделов своего «Трактата о человеческой природе»: «Был поднят очень существенный вопрос об абстрактных или общих идеях – являются ли они общими или частными в представлении ума о них. Один великий философ, доктор Беркли, оспорил общепринятое мнение по этому particular вопросу и утверждал, что все общие идеи суть не что иное, как частные идеи, присоединенные к определенному термину, который придает им более широкое значение и заставляет их при случае вызывать в памяти другие индивиды, им подобные. Я считаю это одним из величайших и наиболее ценных открытий, сделанных в последние годы в республике словесности». Не похоже, чтобы Беркли слышал о Юме.
В это время его начала занимать любопытная тема. Годы после 1739-го были годами страданий в ирландской епархии. Это было время голода, за которым последовали широко распространенные болезни. Его переписка полна упоминаний об этом. Это имело последствия, важные на долгое время. Окруженный болезнями, он размышлял о средствах лечения. Опыт в Род-Айленде и среди американских индейцев подсказал целебные свойства дегтя. Дальнейшие эксперименты с дегтем, combined с размышлениями и множеством любопытных чтений, углубили и расширили его метафизическую философию. Деготь в его экспериментах и мыслях как бы вырос в Панацею для здоровья организма, от которого, между тем, зависит живой человеческий разум. Эта естественная зависимость здоровья от дегтя навела на мысли о взаимозависимости всех вещей, а затем о непосредственной зависимости всего в природе от Вездесущего и Всемогущего Разума. Живой Разум, лежащий в основе феноменов вселенной, начал осмысляться в новом свете. С момента его возвращения к жизни мысли в Род-Айленде он погрузился в платоническую и неоплатоническую литературу, а также в книги мистического богословия, поощряемый, возможно, приписываемой его жене склонностью к мистицизму. Своеобразная изобретательность связала научные эксперименты и предписания с идеализмом Платона и Плотина. Естественный закон, согласно которому дегтярная вода является универсальным restorative средством, заставил его разум работать над вопросом о имманентности живого Разума. Он размышлял о лекарстве, столь универсально полезном, и ему пришла в голову мысль, что оно, должно быть, естественным образом заряжено «чистым невидимым огнем, самым тонким и упругим из тел и жизненным элементом вселенной»; и вода могла быть естественной причиной, которая позволяет этому элементарному огню извлекаться из дегтя и передаваться растительным и животным организмам. Но жизненный огонь мог быть лишь естественной причиной; которая, по правде говоря, вовсе не есть действующая причина, но лишь знак божественной действенности, передаваемой через мир чувств: истинной причиной этого и всех других природных эффектов должен быть имманентный Разум или Разумность, в котором мы все участвуем; ибо в Боге мы живем, и движемся, и существуем.
Мысль Беркли достигает кульминации в его произведении «Сирис». Эта книга, вышедшая в 1744 году, представляет собой «Цепь философских размышлений и исследований о достоинствах дегтярной воды и других предметах, связанных между собой». «Сирис» произвел больше шума, чем любая другая его работа, но не из-за философии, а из-за обещаний в области медицины. Тем не менее, это был последний труд Беркли, где он попытался выразить свое видение вселенной в контексте человеческих и божественных отношений.
Сравнение «Сириса» с «Принципами» показывает, как изменился Беркли за прошедшие годы. Живая и полемическая манера «Принципов» уступает место более задумчивой и созерцательной манере, признающей ограниченность человеческого понимания перед лицом Бесконечности и Вечности.
Сравните начальные разделы Введения к «Принципам» с заключительными разделами «Сириса». Случайные данные нашего опыта теперь ощущаются как недостаточные, и происходит более или менее сознательное обоснование Целого в вечных и неизменных Идеях Разума. «Строго говоря, чувство ничего не знает. Мы действительно воспринимаем звуки слухом и знаки зрением. Но мы не говорим, что понимаем их… Чувство и опыт знакомят нас с ходом и аналогией явлений и природных эффектов: мысль, разум, интеллект вводят нас в знание их причин… Принципы науки не являются ни объектами чувства, ни воображения: интеллект и разум суть единственные надежные проводники к истине». Таким образом, оказывается, что зыбкая основа более ранней мысли нуждается в опоре в интеллектуальной и нравственной вере, которая должна быть задействована во всех разумных человеческих взаимодействиях с феноменами, представленными во вселенной.
Неадекватное представление о Боге лишь как о Духе или Личности, верховной среди духов или личностей, в и через которых реализуется материальный мир, мысль, пронизывающая «Алкифрона», уступает место в «Сирисе» мысли о Боге как о бесконечной вездесущей Основе, или конечной поддерживающей Силе, имманентной в Природе и Человеке, с которой Беркли познакомился в неоплатонической и александрийской метафизике. «Объединяя Бога и творения в одном общем понятии, мы можем сказать, что все вещи вместе (Бог и вселенная Пространства и Времени) составляют Одну Вселенную, или τὸ Πᾶν. Но если бы мы сказали, что все вещи составляют Одного Бога, это было бы ошибочным понятием о Боге; но не amounted бы к атеизму, до тех пор пока Разум или Интеллект признавался бы τὸ ἡγεμονικόν, или правящей частью… Не будет справедливо навешивать ярлык атеизма на тех философов, которые придерживаются учения о τὸ Ἕν». Именно так он теперь рассматривает Бога. Метафизика и теология, соответственно, едины.
В «Сирисе» мир не объясняют через объединяющий Разум. Мы по-прежнему задаемся вопросом, что такое истина и доброта в сердце всего. Ведь в человеческом понимании они меняются вместе с развитием интеллекта и совести. Omnia exeunt in mysteria – такова финальная мысль «Сириса». Реальность слишком сложна для нашего понимания. Ее следует оставить всеведению, она превосходит наш разум и среднее человеческое восприятие. Человек должен принять, что его жизнь – это вера, которая может расти через поколения, но никогда не станет полным знанием.
«В этом состоянии мы должны быть удовлетворены тем, чтобы извлечь максимум из тех проблесков, которые нам доступны. Это замечание Платона в его «Теэтете», что пока мы сидим спокойно, мы не становимся мудрее; но войдя в реку и двигаясь вверх и вниз, есть способ обнаружить ее глубины и отмели. Если мы будем упражняться и проявлять активность, мы можем даже здесь кое-что открыть. Глаз от долгой привычки начинает видеть даже в самой темной пещере; и нет предмета столь темного, чтобы мы не могли различить какой-то проблеск истины, долго вглядываясь в него. Истина – это требование всех, но игра немногих. Конечно, там, где она является главной страстью, она не уступает вульгарным заботам и взглядам; и не довольствуется небольшим пылом в раннюю пору жизни: пору, возможно, подходящую для pursuit, но не столь подходящую для взвешивания и пересмотра. Тот, кто хочет добиться реального прогресса в знании, должен посвятить свой зрелый возраст так же, как и свою юность, поздний урожай так же, как и первые плоды, алтарю Истины». Таков был Беркли, и таковы были его последние слова в философии. Они могут навести на мысль об отношении Бэкона, когда он, с другой точки зрения, отказывается от исчерпывающей системы: «Я положил начало работе: судьба человеческого рода даст исход. Ибо задуманное – не просто счастье спекуляции, но реальное дело и судьбы человеческого рода».
В то время как центральная мысль Беркли на протяжении всей его жизни связана с Богом как единственным вездесущим и всемогущим Промыслительным Агентом во вселенной, он мало говорит о другом конечном вопросе, представляющем более исключительно человеческий интерес, который касается судьбы людей. То, что люди рождаются во вселенной, которая, как видимое выражение Нравственного Промысла, должна быть научно и этически надежной; определенно не способной привести человека в замешательство интеллектуально или морально, видя, что иначе ей нельзя было бы доверять в нашем конечном предприятии веры, – это одно. То, что все личности, рожденные в нее, обязательно будут продолжать жить самосознательно вечно, – это другое. Последнее не подразумевается очевидным образом в первом предположении, независимо от того, можно ли его вывести из него или же обнаружить другими средствами. Хотя среда человека по сути Божественна и целиком в мельчайших деталях Промыслительна, не может ли его тело, в своей живой организации от физического рождения до физической смерти, быть мерой продолжительности его самосознательной личности? Является ли бессмертное существование каждого человека, подобно Божьему, обязательным?
Сомнение относительно судьбы людей после их смерти, в конце девятнадцатого века, вероятно, более распространено, чем сомнение в лежащем в основе Промысле Бога и Его постоянной творческой активности; возможно, более, чем во времена Толанда, Коллинза и Тиндаля. Будущая жизнь была так привычна для воображения ранней и средневековой Церкви, а впоследствии пуританами, как у Мильтона, Беньяна и Джонатана Эдвардса, что тогда она казалась религиозному уму более реальной, чем все, что видимо и осязаемо. Привычка, полностью сформированная естественными науками, склонна рассеивать это и делать человеческую жизнь, проживаемую в условиях, совершенно чуждых ее «мелкой философии», иллюзорной.
Раздел в книге «Принципы», в котором воспроизводится общий аргумент в пользу «естественного бессмертия» человеческой души, усиленный его новым представлением о том, что означает реальность тела, является метафизическим вкладом Беркли в определение между ужасающими альтернативами уничтожения или продолжения самосознательной жизни после физической смерти. Эта тема затрагивается менее замысловатым образом в двух его статьях в «Гардиан» и в «Проповеди», произнесенной в часовне Тринити-колледжа в 1708 году, в которой откровение о бессмертии людей представлено как особое евангелие Иисуса Христа. Утверждать, как это делает Беркли в «Принципах», что люди не могут быть уничтожены при смерти, потому что они суть духовные субстанции, обладающие силами, независимыми от последовательностей природы, подразумевает допущения относительно конечных лиц, которые открыты для критики. Оправдание в разуме для нашего предприятия веры в то, что Всемогущая Доброта находится в сердце вселенной, заключается в том, что без этого предположения мы не можем иметь разумного взаимодействия, научного или иного, с миром вещей и лиц, в котором мы находим себя; ибо разум и воля тогда одинаково парализованы всеобщим недоверием. Но едва ли можно априорно утверждать, что люди или другие духовные существа во вселенной в равной степени с Богом необходимы для ее естественного порядка; так что, однажды вступив в сознательное существование, они должны всегда продолжать существовать сознательно. Не является ли философское оправдание надежды человека на бесконечную жизнь скорее этическим, чем метафизическим; основанным на той вере в справедливость и доброту Универсального Разума, которую приходится принимать как данность в каждой попытке истолковать опыт, с его смесью добра и зла, в этой быстротечной воплощенной жизни? Может ли такая жизнь, как эта, быть всем для людей во вселенной, которая, будучи по сути Божественной, должна действовать на искоренение порочности, которая сейчас делает ее тайной Всемогущей Доброты?
В мышлении Беркли о смерти, как мы видим из его эссе в «Гардиане», присутствует радостный оптимизм: уверенное ощущение нынешнего преобладания добра и, как следствие, ожидание большего добра после смерти; в отличие от тех, чей пессимистический темперамент рождает зловещую картину вечного нравственного беспорядка. Но его в остальном активное воображение редко превращает философию в размышление о смерти. Он, кажется, не упражнял себя так, как те, кто находит в перспективе оказаться в двадцать первом веке такими же, как в первом, нечто, что заставляет их ужасаться тому, что они вообще появились в этой преходящей воспринимающей жизни; или как те другие, кто отшатывается от бестелесной жизни после физической смерти, видя в ней нечто бесконечно более ужасающее, чем мысль о переносе в этом теле на другую планету или даже в материальный мир за пределами нашей солнечной системы. В одном из своих писем к Джонсону он все же приближается к теме бестелесной жизни, и характерным образом:
«Я не вижу трудности в том, чтобы представить перемену состояния, обычно называемую смертью, как без материальной субстанции, так и с ней. Для этого достаточно, чтобы мы допускали чувственные тела, т.е. такие, которые непосредственно воспринимаются зрением и осязанием; существование которых я настолько далек от того, чтобы ставить под вопрос, как это обычно делают философы, что, думаю, обосновываю его на очевидных принципах. Теперь кажется весьма легко представить, что душа существует в отдельном состоянии (т.е. свободная от тех ограничений и законов движения и восприятия, которые здесь ее стесняют) и упражняется на новых идеях без посредства этих осязаемых вещей, которые мы называем телами. Даже вполне возможно понять, как душа может иметь идеи цвета без глаза или звуков без уха».
Но хотя мы можем таким образом предположить, что будем иметь весь наш нынешний чувственный опыт в бестелесном состоянии, это не позволяет представить, как бестелесные личности могут общаться друг с другом при отсутствии всяких чувственных знаков; будь то знаки, получаемые от наших нынешних чувств, или от других чувств, данные которых мы в этой жизни не можем себе вообразить.
Энтузиазм Беркли относительно дегтярной воды сохранялся до конца его жизни и находил выход в письмах и pamphlets в поддержку его Панацеи с 1744 по 1752 год. Несмотря на это, он не забывал и о других интересах – церковных и социальных, которые он включал в свой широкий смысл слова «церковные». Восстание 1745 года под предводительством Карла Эдуарда послужило поводом для «Письма к римским католикам Клойна», характерно человеколюбивого и либерального. За ним последовало в 1749 году «Обращение к римско-католическому духовенству Ирландии» в том же духе; и эта необычная учтивость ирландского протестантского епископа была встречена теми, к кому она была обращена, в соответствующем настроении.
Трудно определить отношение Беркли к rival школам или партиям в Церкви и Государстве. Его склад был слишком своеобразным и независимым для приверженца. Некоторые из его ранних сочинений, как мы видели, вызывали подозрения в симпатиях к тори и якобитам; но его аргументы в вызвавшей подозрения «Проповеди» были таковы, что обычные тори и якобиты не могли их понять, а общий тон его слов и действий был в лучшем смысле либеральным. В религиозной мысли «Сирис» мог бы поместить его среди латитудинариев; возможно, в родстве с кембриджскими платониками. Его истинное место – во главе религиозных философов Англиканской церкви; первый, кто подготовил религиозную проблему для того света, в котором нам предлагают смотреть на вселенную современные агностики и в рамках современной концепции естественной эволюции. Он – самая живописная фигура в той англиканской succession, которая в XVII веке включает Гукера и Кедворта; в XVIII – Кларка и Батлера; а в XIX, можно ли сказать, Кольриджа, за неимением представителя в сане; хотя не следует забывать Манселя, Мориса, Мозли и Джоуэтта, а среди мирян – Айзека Тейлора: Ньюмен и Арнольд, прославленные иначе, едва ли являются представителями метафизической философии.
В последние годы в Клойне звучал более задумчивый тон. Друзья пытались вывести его из уединения, где он долгое время пребывал. Они настаивали на его праве занять пост примаса Ирландии. «Я не соперник и не претендент на это место», – сказал он Прайору. «Меня не привлекают пиры, толпы, визиты, поздние часы, незнакомые лица и суета. Для меня важнее распоряжаться своим временем, чем носить диадему».
Письма к его американским друзьям, Джонсону и Клапу, показывают, что вдохновение, приведшее его через Атлантику, не угасло. Они свидетельствуют о его влиянии на развитие американских колледжей. Он также уделял внимание домашнему образованию своих троих сыновей. Вдова Уильяма рассказывала, что он не доверял воспитание детей наемным учителям. Хотя старый и больной, он сам выполнял эту задачу. О результатах его усилий известно немного. Смерть Уильяма, его любимого сына, в 1751 году стала для него ударом. «Я человек, удалившийся от развлечений, политики, визитов и того, что мир называет удовольствием», – писал он. «У меня был маленький друг, всегда воспитанный у меня на глазах. Его живопись восхищала меня, музыка завораживала, а живой веселый дух радовал. Богу было угодно забрать его отсюда».
Старший сын, Генри, родившийся в Род-Айленде, ненадолго пережил отца. Джордж, третий сын, был предназначен для Оксфорда. Эта судьба была связана с новым проектом.
«Академико-философскую жизнь», которую он тщетно пытался обрести на Бермудах, он теперь надеялся найти для себя в городе колледжей на Изиде. «Правда в том, – писал он Прайору еще в сентябре 1746 года, – что у меня уже давно есть собственный план, в котором я предвкушаю больше удовлетворения и радости для себя, чем на той высокой должности, которой я не домогался и которой даже не желал. Больший доход не соблазнил бы меня покинуть Клойн и отказаться от моего оксфордского плана; который, хотя и отложен из-за болезни моего сына, все же я столь же intent на него и столь же решителен, как и всегда».
Последнее из имеющихся у нас писем Беркли адресовано декану Джервису. В нем выражены чувства, с которыми в апреле 1752 года он созерцал жизнь накануне своего отъезда из Клойна.
«Я подчиняюсь годам и их тяготам. Мои взгляды на мир ограниченны и узки; я лишь малая часть этого большого мира, и меня это не должно беспокоить. Я избегаю дел, особенно общения с важными людьми и участия в серьезных делах. Я предпочитаю проводить последние годы жизни в тишине и уединении. Честолюбивые планы, интриги и споры политиков, которые раньше увлекали меня, теперь кажутся пустыми и мимолетными».
Четыре месяца спустя Беркли в последний раз посетил Клойн. В августе он отправился в Оксфорд, который давно мечтал сделать своим пристанищем в старости. Когда он покинул Корк на корабле с женой, дочерью и собой, направляясь в Бристоль, слабость охватила его, и его пришлось везти дальше на конных носилках. В конце августа они прибыли в Оксфорд.
История Беркли в Оксфорде окутана туманом. По традиции, он жил на Холиуэлл-стрит, рядом с садами Нью-Колледжа и неподалеку от монастырских построек Модлин-колледжа. Этот мир изменился для него. Переезжая из Ирландии в Англию, он терял старых английских друзей. Еще до отъезда из Клойна он мог услышать о смерти Батлера в июне в Бате. Бенсон, по просьбе Секера, с любовью провел последние часы автора «Аналогии», а затем последовал за ним в августе.
Мы слышим о возобновлении учебы при улучшившемся здоровье в доме на Холиуэлл-стрит. В октябре «Сборник, содержащий несколько трактатов на различные темы», «епископа Клойнского», появился одновременно в Лондоне и Дублине. Трактаты были перепечатками, за исключением «Дальнейших размышлений о дегтярной воде», которые, возможно, были написаны до отъезда из Ирландии. Третье издание «Алкифрона» также появилось этой осенью. Но «Сирис» – последнее свидетельство его философской мысли. Сравнение «Записной книжки» и «Принципов» с «Аналитиком» и «Сирисом» дает меру его продвижения. После бойкого начала, возможно, это сравнение оставляет чувство разочарования, когда мы находим метафизику, смешанную с математикой в «Аналитике», и метафизику, смутно смешанную с медициной в «Сирисе».
Любопытно, что хотя «Трактат о человеческой природе» Дэвида Юма был к 1752 году известен миру уже тринадцать лет, а его «Исследование о человеческом познании» – четыре года, у Беркли нет никаких упоминаний о Юме. Он был непосредственным преемником Беркли в эволюции европейской мысли XVIII века. Скептическая критика Юма была применена к догматической религиозной философии Беркли, чтобы в свою очередь уступить место абстрактно-рациональной и морально-reconstructive критике Канта. Однако Юм прямо ссылается на «Алкифрона»; косвенно же – на протяжении всего религиозного агностицизма своего «Исследования», а также позднее в «Диалогах о естественной религии», в защиту «мелкой философии» с помощью более глубоких рассуждений, чем те, что удовлетворяли Лисикла и Алкифрона. Беркли, Юм и Кант – три значительные философские фигуры своего века, каждая из которых последовательно занимала верховное место в его начале, середине и поздние годы. Возможно, Рид в Шотландии сделал больше, чем кто-либо другой в его поколении, для того, чтобы сделать Беркли известным; но не за его подлинную работу в области конструктивной религиозной мысли, а за его мнимое отрицание реальности вещей, которые мы видим и осязаем.
Идеальная жизнь в Оксфорде длилась недолго. Вечером в воскресенье, 14 января 1753 года, Беркли внезапно столкнулся с тайной смерти. «Когда он сидел с моей матерью, моей сестрой и со мной, – писал его сын Джонсону в Стратфорд в октябре, – внезапно, без малейшего предварительного предупреждения или боли, он был вознесен для наслаждения вечными наградами; и хотя все возможные средства были немедленно использованы, никаких признаков жизни после этого не появлялось; nor могли врачи назвать причину его смерти. Он прибыл в Оксфорд 25 августа и получил большое облегчение от перемены воздуха и, благословением Божьим, от дегтярной воды, настолько, что в течение нескольких лет он не был в лучшем здоровье, чем в тот миг, прежде чем он покинул нас».
Шесть дней спустя он был похоронен в Оксфорде, в соборе Крайст-Черч, где его гробница bears соответствующую эпитафию доктора Маркема, впоследствии архиепископа Йоркского.
«Записная книжка». Математические, этические, физические и метафизические заметки.
Написано в Тринити-колледже, Дублин, в 1705-1708 гг.
Впервые опубликовано в 1871 году
Предисловие редактора к «Записной книжке»Юношеская «Записная книжка» Беркли – это небольшой том в четвертую долю листа, написанный его рукой, найденный среди берклеевских рукописей в распоряжении покойного архидиакона Роуза. Впервые она была опубликована в 1871 году в моем издании «Работ» Беркли. Она состоит из случайных мыслей, математических, физических, этических и метафизических, изложенных в беспорядочном виде, для частного пользования, по мере того как они возникали в ходе его занятий в Тринити-колледже в Дублине. Они полны того пылающего энтузиазма, который был для него естественен, и радужных ожиданий исхода будущего авторства, к которому они фиксируют приготовления. На титульном листе написано: «G. B. Trin. Dub. alum.», с датой 1705 год, когда ему было двадцать лет. Записи – это постепенное накопление последующих трех лет, в одном из которых появились его «Arithmetica» и «Miscellanea Mathematica». «Опыт о новой теории зрения», представленный миру в 1709 году, явно много занимал его мысли, как и возвышенное понятие о материальном мире в его необходимом подчинении миру духовному, которое он изложил в своей книге «Принципы» в 1710 году.
Эта откровенность мыслей Беркли о вещах в годы, предшествовавшие публикации его первых опытов, – поистине драгоценная летопись начальных борений пылкого философского гения. Она помещает читателя в тесное товарищество с ним, когда он только начинал пробуждаться к интеллектуальной и духовной жизни. Мы слышим его размышляющего вслух. Мы видим, как он пытается перевести в разумность наши грубые, унаследованные верования о материальном мире и естественном порядке вселенной, самосознающей личности и Универсальной Силе или Промысле – все под властью нового определяющего Принципа, который глубоко овладевал его душой. Он находит, что ему достаточно лишь взглянуть на конкретные вещи чувств в свете этого великого открытия, чтобы увидеть, как искусственно вызванные затруднения старых философов исчезают вместе с их внушительными абстракциями, которые оказываются пустыми словами. Мысль здесь повсюду свежа и искренна; иногда стремительна и одностороння; это плод ума, не расположенного принимать вещи на веру, решившегося исследовать свободно, бунтаря против тирании языка, морально обремененного сознанием новой, мир преображающей концепции, которую долг перед человечеством обязывал его раскрыть, хотя его послание наверняка должно было оскорбить. Людям нравится рассматривать вещи так, как они привыкли. Эта новая концепция окружающего мира – бессилие Материи и ее подчиненное место в Высшем Хозяйстве – должна, предвидел он, встревожить тех, кто привык считать внешние вещи единственными реальностями и кто не cares спросить, что составляет реальность. Несмотря на насмешки и недоброжелательность, которые его преображенный материальный мир наверняка встретит среди многих, принимающих пустые слова вместо подлинного прозрения, он был полон решимости излить свои мысли через печать, но с политичной умиротворяющей убедительностью ирландского адвоката.