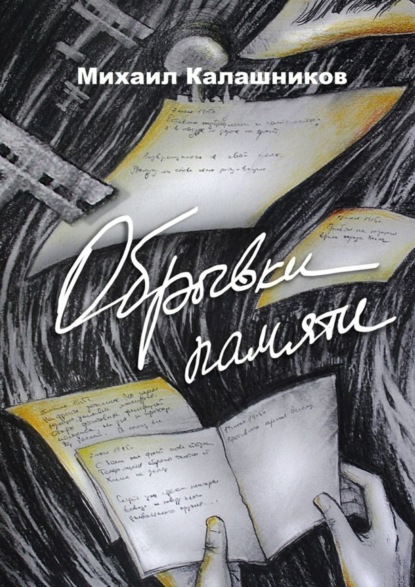Сочинения Джорджа Беркли. Том 3. Философские работы с 1734 по 1745
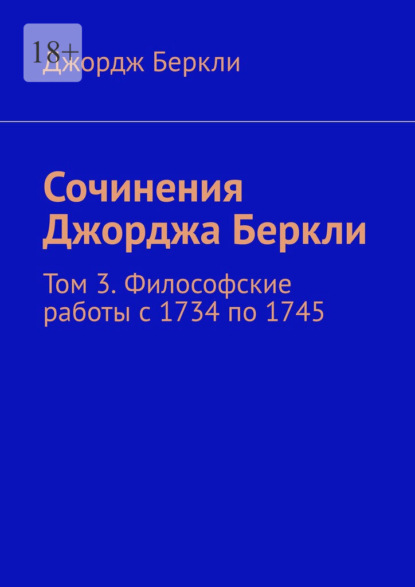
- -
- 100%
- +
VII. Я не утверждаю, как вы меня представляете, что у нас нет лучших оснований для нашей религии, чем у вас для флюксий: но я говорю, что неверующий, который верит в учение о флюксиях, действует весьма непоследовательно, притворно отвергая христианскую религию потому, что не может верить в то, чего не постигает; или потому, что не может согласиться без доказательств; или потому, что не может подчинить свою веру авторитету. Существуют ли такие неверующие, я предоставляю суду читателя. Что касается меня лично, я не сомневаюсь в этом, ибо сам видел тому некоторые красноречивые признаки и был весьма достоверно уведомлен о том другими. И это обвинение не кажется менее правдоподобным оттого, что вы так чувствительно затронуты и отрицаете его со столь большой страстью. Вы, действительно, не останавливаетесь перед утверждением, что лица, сообщившие мне это, – сброд подлых, распутных и наглых лжецов [стр. 27]. Насколько читатель сочтет уместным перенять ваши страсти, я сказать не могу; но могу правдиво сказать, что покойный прославленный г-н Аддисон – один из тех, кого вы соблаговолили охарактеризовать столь скромными и учтивыми выражениями. Он заверил меня, что неверие одного известного математика, всё еще живого, было одной из главных причин, названных остроумным человеком того времени, для его собственного неверия. Не то чтобы я предполагал, что геометрия располагает людей к неверию; но что по иным причинам, таким как самомнение, невежество или тщеславие, подобно другим людям, и геометры также становятся неверующими, и что мнимый свет и доказательность их науки придает вес их неверию.
VIII. Вы упрекаете меня в «клевете, поношении и уловках» [стр. 15]. Вы рекомендуете такие средства, которые «невинны и справедливы, а не преступный метод умаления или поношения моих оппонентов» [там же]. Вы обвиняете меня в «Богословской ненависти, неумеренном рвении богословов», в том, что я «стою на старых путях» [стр. 13], и многое другое в том же духе. От всей этой тяжбы я завишу от беспристрастия читателя, что он не поверит вам на слово, но прочтет и рассудит сам. В этом случае он сможет разглядеть (хотя бы он и не был математиком), насколько страстны и несправедливы ваши упреки и как возможно человеку вопить против клеветы и практиковать ее в одном и том же дыхании. Учитывая, сколь нетерпеливо всё человечество, когда в его предрассудках начинают разбираться, я не удивляюсь видеть, как вы бранитесь и негодуете в том духе, как вы это делаете. Но если ваше собственное воображение сильно потрясено и взволновано, вы не можете из этого заключить, что искреннее старание освободить науку, столь полезную и украшающую человеческую жизнь, от тех тонкостей, неясностей и парадоксов, которые делают ее недоступной для большинства людей, будет сочтено преступным предприятием теми, кто в здравом уме. Еще менее вы можете надеяться, что прославленная обитель ученых мужей, породившая столько свободомыслящих искателей истины, разом проникнется вашими страстями и выродится в гнездо фанатиков.
IX. Я указываю на непоследовательность некоторых неверующих аналитиков. Я отмечаю некоторые недостатки в принципах современного анализа. Я позволяю себе прилично расходиться во мнениях с сэром Исааком Ньютоном. Я предлагаю некоторые средства, чтобы сократить трудности математических занятий и сделать их более полезными. Что же во всем этом такого, что заставляет вас пространно рассуждать о полезности прикладной математики? что побуждает вас вопить об Испании, инквизиции, Богословской ненависти? Какою фигурой речи вы распространяете то, что сказано о современном анализе, на математику вообще, или то, что сказано о математиках-неверующих, на всех математиков, или опровержение ошибки в науке – на сожжение или повешение авторов? Но нет ничего нового или странного в том, что люди предпочитают потакать своим страстям, нежели отказаться от своих мнений, сколь бы абсурдны они ни были. Отсюда – страшные видения и трагические вопли людей ослепленных, каков бы ни был предмет их фанатизма. Очень примечательный пример этого вы приводите [стр. 27], где, по поводу моего заявления, что уважение к определенным математикам-неверующим, как мне было достоверно сообщено, было одним из побуждений к неверию, вы с немалым волнением спрашиваете: «Ради Бога, мы в Англии или в Испании? Это язык фамильяра, что нашёптывает инквизитору, и т.д.?» А на предыдущей странице вы восклицаете следующими словами: «Давайте сожжем или перевешаем всех математиков в Великобритании, либо натравим на них чернь, чтобы растерзать их в клочья, всех до единого, будь то троянец или рутулец, мирян или духовных, и т. д. Давайте выкопаем тела доктора Барроу и сэра Исаака Ньютона и сожжем их под виселицей», и т. д.
X. Читателю не нужно быть математиком, чтобы видеть, как тщетна вся эта ваша трагедия. И если он столь же твердо убежден, как и я, что дело флюксий не может быть защищено разумом, он будет столь же мало удивлен, как и я, видя, как вы прибегаете к уловкам всех ослепленных людей, сея ужас и призывая на помощь страсти. Я предоставляю читателю судить, не являются ли те риторические россказни об инквизиции и галерах совершенно смехотворными. Кто также рассудит (хотя бы он и не был искушен в геометрии), дал ли я малейший повод для этого и целого мира подобных рассуждений? и не относился ли я постоянно к тем прославленным писателям со всем должным уважением, хотя и позволяю себе в некоторых пунктах с ними расходиться?
XI. Как я всей душой ненавижу инквизицию в вере, так я полагаю, что у вас нет права возводить ее в науке. Во время написания вашей защиты вы, казалось, были охвачены страстью: но теперь, когда вы, предположительно, остыли, я желаю, чтобы вы поразмыслили, не написана ли она в истинном духе инквизитора. Подобает ли это лицу, столь чрезвычайно щепетильному в этом пункте? И посчитают ли ваши братья-аналитики, что вы оказали им честь или услугу, защитив их учение тем же способом, как любой рассуждающий фанатик стал бы защищать пресуществление? Те же ложные краски, те же неумеренные выпады и то же негодование против здравого смысла!
XII. В вопросе чистой науки, где авторитету нечего делать, вы постоянно стараетесь подавить меня авторитетами и обременить меня завистью. Если я усматриваю софизм в трудах великого автора и, в угоду его пониманию, подозреваю, что он едва ли мог быть вполне доволен своим собственным доказательством: это побуждает вас пространно рассуждать на несколько страниц. Это помпезно излагается как преступный метод умаления великих людей, как согласованный проект подрыва их репутации, как представление их обманщиками. Если я публикую свои свободные мысли, которые я имею такое же право публиковать, как и любой другой человек, это приписывается опрометчивости, тщеславию и любви к противоречию. Хотя, возможно, моя недавняя публикация того, на что намекали двадцать пять лет назад, оправдает меня в этом обвинении в глазах беспристрастного читателя. Но когда я принимаю во внимание затруднения, обступающие человека, берущегося защищать учение о флюксиях, я легко могу простить ваш гнев.
XIII. Есть два рода ученых мужей: одни – те, кто беспристрастно ищет истину рациональными средствами. Эти никогда не против того, чтобы их принципы были изучены и исследованы испытанием разума. Есть другой род, которые заучивают наизусть набор принципов и образ мышления, случайно оказавшиеся в моде. Эти выдают себя своим гневом и удивлением всякий раз, когда их принципы свободно обсуждаются. Но вы не должны ожидать, что ваш читатель станет причастным к вашим страстям или вашим предрассудкам. Я свободно признаю, что сэр Исаак Ньютон показал себя необыкновенным математиком, глубоким натуралистом, лицом величайших способностей и эрудиции. До этого я охотно готов дойти, но не могу идти так далеко, как вы. Я никогда не скажу о нем, как вы: «Преклоняюсь перед следами» [стр. 70]. То же поклонение, что вы воздаете ему, я воздам только Истине.
XIV. Вы, действительно, можете сами быть идолопоклонником, кому вам угодно: но тогда вы не имеете права оскорблять и вопить на других людей за то, что они не поклоняются вашему идолу. Как бы велик ни был сэр Исаак Ньютон, я полагаю, он не раз показывал, что не является непогрешимым. В частности, его доказательство учения о флюксиях я считаю несовершенным, и не могу не думать, что он и сам не был им вполне доволен. И все же это не мешает тому, что метод может быть полезен, рассматриваемый как искусство изобретения. Вы, будучи математиком, должны признать, что в математике допускались различные подобные методы, которые не являются доказательными. Таковы, например, индукции доктора Валлиса в его «Арифметике бесконечностей», и таково то, что Хэрриот и, после него, Декарт писали относительно корней уравнений с произвольными коэффициентами. Тем не менее, из этого не следует, что те методы бесполезны; но лишь то, что их не следует допускать в качестве посылок в строгом доказательстве.
XV. Никакое великое имя на земле никогда не заставит меня принять неясное за ясное или софизмы за доказательства. И вам никогда не удастся удержать меня от свободного высказывания того, что я свободно думаю, теми аргументами к зависти, которые вы на каждом шагу применяете против меня. Вы представляете себя [стр. 52] как человека, «высшее честолюбие которого – в самой малой степени подражать сэру Исааку Ньютону». Быть может, это больше подошло бы вашему прозвищу Филолета, и было бы столь же похвально, если бы вашим высшим честолюбием было открывать истину. В полном соответствии с характером, который вы себе даете, вы говорите о нем как о своего рода преступлении [стр. 70] – думать, что вы когда-либо сможете «увидеть дальше или пойти beyond сэра Исаака Ньютона». И я убежден, что вы выражаете чувства многих других, кроме вас самих. Но есть и другие, которые не боятся просеивать принципы человеческого знания, которые не считают честью подражать величайшему человеку в его недостатках, которые даже не считают преступлением желать знать не только beyond сэра Исаака Ньютона, но и beyond всего человечества. И кто бы ни думал иначе, я взываю к читателю: может ли он быть надлежащим образом назван философом?
XVI. Поскольку я не виновен в вашем низком идолопоклонстве, вы поносите меня как человека, мнящего о своих способностях; не учитывая, что человек с меньшими способностями может знать больше в определенном пункте, чем человек с большими; не учитывая, что близорукий глаз, при близком и узком рассмотрении, может разглядеть в вещи больше, чем much лучший глаз при более обширном обзоре; не учитывая, что это – устанавливать ne plus ultra, положить конец всем будущим изысканиям; Наконец, не учитывая, что это – на деле, насколько это от вас зависит, превращать Республику Литературы в абсолютную монархию, что это даже вводить нечто вроде Философского Папства среди свободного народа.
XVII. Я сказал (и осмеливаюсь сказать и теперь), что флюксия непостижима: что вторые, третьи и четвертые флюксии еще более непостижимы: что невозможно conceiving простую бесконечно малую: что еще менее возможно conceiving бесконечно малую от бесконечно малой, и так далее. [Примечание: Аналист, Разд. 4, 5, 6, и т.д.] Что вы можете сказать в ответ на это? Пытаетесь ли вы прояснить понятие флюксии или разности? Ничего подобного; вы лишь «уверяете меня (на одно лишь ваше слово), по вашему собственному опыту и опыту нескольких других, которых вы могли бы назвать, что учение о флюксиях может быть ясно понято и отчетливо постигнуто; и что если я озадачен им и не понимаю его, то другие понимают». Но можете ли вы думать, сударь, что я приму ваше слово, когда отказываюсь принять слово вашего Учителя?
XVIII. В этом пункте каждый читатель, обладающий здравым смыслом, может судить так же хорошо, как и самый глубокий математик. Простое представление о определяемой вещи не становится более совершенным от какого бы то ни было последующего прогресса в математике. То, что кто-либо явно знает, он знает так же хорошо, как вы или сэр Исаак Ньютон. И каждый может знать, является ли объект этого метода (как вы хотите нас заставить думать) ясно постижимым. Чтобы судить об этом, не требуется глубины науки, но лишь простое внимание к тому, что происходит в его собственном уме. И то же самое следует понимать относительно всех определений во всех науках вообще. Ни в одной из них нельзя предположить, что человек смысла и духа примет какое-либо определение или принцип на веру, без того чтобы не разобрать его до дна и не испытать, насколько он может или не может его постичь. Это – курс, которого я придерживался и буду придерживаться, как бы вы и ваши братья ни рассуждали против него и ни выставляли его в самом невыгодном свете.
XIX. Вам обычно угодно увещевать меня пересмотреть вторично, проконсультироваться, исследовать, взвесить слова сэра Исаака. В ответ на что я осмелюсь сказать, что я приложил столько же стараний, как (я искренне верю) любой живущий человек, чтобы понять того великого автора и найти смысл в его принципах. Уверяю вас, с моей стороны не было недостатка ни в усердии, ни в осторожности, ни во внимании. Так что, если я не понимаю его, это не моя вина, но моя неудача. По другим предметам вы соблаговоляете делать мне комплименты в глубине мысли и необычных способностях, [стр. 5 и 84]. Но я свободно признаю, что не претендую на эти вещи. Единственное преимущество, на которое я претендую, это то, что я всегда думал и судил самостоятельно. И, поскольку у меня никогда не было учителя в математике, я честно следовал указаниям моего собственного ума, исследуя и подвергая критике авторов, которых я читал на эту тему, с той же свободой, которую я применял к любому другому; не принимая ничего на веру и не веря, что какой-либо писатель непогрешим. И человек средних способностей, который следует этому трудному пути в изучении принципов любой науки, может считаться идущим более верно, чем те, кто обладает большими способностями, но начинает с большей скоростью и меньшей заботой.
XX. На чем я настаиваю, так это на том, что представление о флюксии, просто рассматриваемое, никоим образом не улучшается и не исправляется каким-либо прогрессом, сколь бы велик он ни был, в анализе: также и доказательства общих правил того метода никоим образом не проясняются их применением. Причина чего в том, что при операциях или вычислениях люди не возвращаются к созерцанию первоначальных принципов метода, которые они постоянно предполагают, но заняты работой с помощью обозначений и символов, означающих флюксии, предположительно изначально объясненные, и согласно правилам, предположительно изначально доказанным. Это я говорю, чтобы ободрить тех, кто недалеко продвинулся в этих занятиях, смело пользоваться собственным суждением, без слепого или низкого подобострастия к лучшим из математиков, которые не более квалифицированы, чем они, чтобы судить о простом представлении или доказательности того, что излагается в первых элементах метода; люди посредством дальнейшего и частого использования или упражнения становятся лишь более привычными к символам и правилам, что не делает ни предшествующие понятия более ясными, ни предшествующие доказательства более совершенными. Каждый читатель здравого смысла, который только воспользуется своими способностями, знает так же хорошо, как и самый глубокий аналитик, какое представление он формирует или может сформировать о скорости без движения, или о движении без протяженности, о величине, которая ни конечна, ни бесконечна, или о количестве, не имеющем величины, которое тем не менее делимо, о фигуре, где нет пространства, о пропорции между ничто, или о реальном произведении от ничто, умноженного на нечто. Ему не нужно быть далеко продвинутым в геометрии, чтобы знать, что неясные принципы не должны допускаться в доказательстве: что если человек разрушает свою собственную гипотезу, он в то же время разрушает то, что было на ней построено: что ошибка в посылках, не исправленная, должна производить ошибку в заключении.
XXI. По моему мнению, величайшие люди имеют свои предрассудки. Люди изучают элементы науки от других: и каждый ученик питает более или менее почтительность к авторитету, особенно молодые ученики, немногие из такого рода заботятся долго останавливаться на принципах, но склонны скорее принимать их на веру: и вещи, рано принятые, от повторения становятся привычными: и эта привычность со временем проходит за доказательность. Теперь мне кажется, что есть определенные пункты, молчаливо принимаемые математиками, которые ни очевидны, ни истинны. И такие пункты или принципы, всегда смешиваясь с их рассуждениями, ведут их к парадоксам и затруднениям. Если великий автор флюксионного метода был рано пропитан такими понятиями, это лишь показало бы, что он был человеком. И если в силу некоторой скрытой ошибки в его принципах человек втягивается в ошибочные рассуждения, нет ничего странного в том, что он принимает их за истинные: и, тем не менее, если, будучи вынужден затруднениями и нелепыми следствиями и доведен до уловок и ухищрений, он задерживает некоторое сомнение в них, это не более, чем можно естественно предположить, могло приключиться с великим гением, борющимся с непреодолимой трудностью: в каковом свете я и поместил сэра Исаака Ньютона. [Примечание: Аналист, Разд. 18]. Здесь вы, к вашему удовольствию, замечаете, что я представляю великого автора не только как слабого, но и как дурного человека, как обманщика и мошенника. Читатель рассудит, насколько справедливо.
XV. Никакое великое имя на земле никогда не заставит меня принять неясное за ясное или софизмы за доказательства. И вам никогда не удастся удержать меня от свободного высказывания того, что я свободно думаю, теми аргументами к зависти, которые вы на каждом шагу применяете против меня. Вы представляете себя [стр. 52] как человека, «высшее честолюбие которого – в самой малой степени подражать сэру Исааку Ньютону». Быть может, это больше подошло бы вашему прозвищу Филолета, и было бы столь же похвально, если бы вашим высшим честолюбием было открывать истину. В полном соответствии с характером, который вы себе даете, вы говорите о нём как о своего рода преступлении [стр. 70] – думать, что вы когда-либо сможете «увидеть дальше или пойти дальше сэра Исаака Ньютона». И я убежден, что вы выражаете чувства многих других, кроме вас самих. Но есть и другие, которые не боятся просеивать принципы человеческого знания, которые не считают честью подражать величайшему человеку в его недостатках, которые даже не считают преступлением желать знать не только дальше сэра Исаака Ньютона, но и дальше всего человечества. И кто бы ни думал иначе, я взываю к читателю: может ли он быть надлежащим образом назван философом?
XVI. Поскольку я не виновен в вашем низком идолопоклонстве, вы поносите меня как человека, мнящего о своих способностях; не учитывая, что человек с меньшими способностями может знать больше в определенном пункте, чем человек с большими; не учитывая, что близорукий глаз, при близком и узком рассмотрении, может разглядеть в вещи больше, чем гораздо лучший глаз при более обширном обзоре; не учитывая, что это – устанавливать ne plus ultra, положить конец всем будущим изысканиям; Наконец, не учитывая, что это – на деле, насколько это от вас зависит, превращать Республику Литературы в абсолютную монархию, что это даже вводить нечто вроде Философского Папства среди свободного народа.
XVII. Я сказал (и осмеливаюсь сказать и теперь), что флюксия непостижима: что вторые, третьи и четвертые флюксии ещё более непостижимы: что невозможно постичь простую бесконечно малую: что ещё менее возможно постичь бесконечно малую от бесконечно малой, и так далее. [Примечание: Аналист, Разд. 4, 5, 6, и т.д.] Что вы можете сказать в ответ на это? Пытаетесь ли вы прояснить понятие флюксии или разности? Ничего подобного; вы лишь «уверяете меня (на одно лишь ваше слово), по вашему собственному опыту и опыту нескольких других, которых вы могли бы назвать, что учение о флюксиях может быть ясно понято и отчетливо постигнуто; и что если я озадачен им и не понимаю его, то другие понимают». Но можете ли вы думать, сударь, что я приму ваше слово, когда отказываюсь принять слово вашего Учителя?
XVIII. В этом пункте каждый читатель, обладающий здравым смыслом, может судить так же хорошо, как и самый глубокий математик. Простое представление о определяемой вещи не становится более совершенным от какого бы то ни было последующего прогресса в математике. То, что кто-либо явно знает, он знает так же хорошо, как вы или сэр Исаак Ньютон. И каждый может знать, является ли объект этого метода (как вы хотите нас заставить думать) ясно постижимым. Чтобы судить об этом, не требуется глубины науки, но лишь простое внимание к тому, что происходит в его собственном уме. И то же самое следует понимать относительно всех определений во всех науках вообще. Ни в одной из них нельзя предположить, что человек смысла и духа примет какое-либо определение или принцип на веру, без того чтобы не разобрать его до дна и не испытать, насколько он может или не может его постичь. Это – курс, которого я придерживался и буду придерживаться, как бы вы и ваши братья ни рассуждали против него и ни выставляли его в самом невыгодном свете.
XIX. Вам обычно угодно увещевать меня пересмотреть вторично, проконсультироваться, исследовать, взвесить слова сэра Исаака. В ответ на что я осмелюсь сказать, что я приложил столько же стараний, как (я искренне верю) любой живущий человек, чтобы понять того великого автора и найти смысл в его принципах. Уверяю вас, с моей стороны не было недостатка ни в усердии, ни в осторожности, ни во внимании. Так что, если я не понимаю его, это не моя вина, но моя неудача. По другим предметам вы соблаговоляете делать мне комплименты в глубине мысли и необычных способностях, [стр. 5 и 84]. Но я свободно признаю, что не претендую на эти вещи. Единственное преимущество, на которое я претендую, это то, что я всегда думал и судил самостоятельно. И, поскольку у меня никогда не было учителя в математике, я честно следовал указаниям моего собственного ума, исследуя и подвергая критике авторов, которых я читал на эту тему, с той же свободой, которую я применял к любому другому; не принимая ничего на веру и не веря, что какой-либо писатель непогрешим. И человек средних способностей, который следует этому трудному пути в изучении принципов любой науки, может считаться идущим более верно, чем те, кто обладает большими способностями, но начинает с большей скоростью и меньшей заботой.
XX. На чём я настаиваю, так это на том, что представление о флюксии, просто рассматриваемое, никоим образом не улучшается и не исправляется каким-либо прогрессом, сколь бы велик он ни был, в анализе: также и доказательства общих правил того метода никоим образом не проясняются их применением. Причина чего в том, что при операциях или вычислениях люди не возвращаются к созерцанию первоначальных принципов метода, которые они постоянно предполагают, но заняты работой с помощью обозначений и символов, означающих флюксии, предположительно изначально объяснённые, и согласно правилам, предположительно изначально доказанным. Это я говорю, чтобы ободрить тех, кто недалеко продвинулся в этих занятиях, смело пользоваться собственным суждением, без слепого или низкого подобострастия к лучшим из математиков, которые не более квалифицированы, чем они, чтобы судить о простом представлении или доказательности того, что излагается в первых элементах метода; люди посредством дальнейшего и частого использования или упражнения становятся лишь более привычными к символам и правилам, что не делает ни предшествующие понятия более ясными, ни предшествующие доказательства более совершенными. Каждый читатель здравого смысла, который только воспользуется своими способностями, знает так же хорошо, как и самый глубокий аналитик, какое представление он формирует или может сформировать о скорости без движения, или о движении без протяжённости, о величине, которая ни конечна, ни бесконечна, или о количестве, не имеющем величины, которое тем не менее делимо, о фигуре, где нет пространства, о пропорции между ничто, или о реальном произведении от ничто, умноженного на нечто. Ему не нужно быть далеко продвинутым в геометрии, чтобы знать, что неясные принципы не должны допускаться в доказательстве: что если человек разрушает свою собственную гипотезу, он в то же время разрушает то, что было на ней построено: что ошибка в посылках, не исправленная, должна производить ошибку в заключении.
XXI. По моему мнению, величайшие люди имеют свои предрассудки. Люди изучают элементы науки от других: и каждый ученик питает более или менее почтительность к авторитету, особенно молодые ученики, немногие из такого рода заботятся долго останавливаться на принципах, но склонны скорее принимать их на веру: и вещи, рано принятые, от повторения становятся привычными: и эта привычность со временем проходит за доказательность. Теперь мне кажется, что есть определённые пункты, молчаливо принимаемые математиками, которые ни очевидны, ни истинны. И такие пункты или принципы, всегда смешиваясь с их рассуждениями, ведут их к парадоксам и затруднениям. Если великий автор флюксионного метода был рано пропитан такими понятиями, это лишь показало бы, что он был человеком. И если в силу некоторой скрытой ошибки в его принципах человек втягивается в ошибочные рассуждения, нет ничего странного в том, что он принимает их за истинные: и, тем не менее, если, будучи вынужден затруднениями и нелепыми следствиями и доведён до уловок и ухищрений, он задерживает некоторое сомнение в них, это не более, чем можно естественно предположить, могло приключиться с великим гением, борющимся с непреодолимой трудностью: в каковом свете я и поместил сэра Исаака Ньютона. [Примечание: Аналист, Разд. 18]. Здесь вы, к вашему удовольствию, замечаете, что я представляю великого автора не только как слабого, но и как дурного человека, как обманщика и мошенника. Читатель рассудит, насколько справедливо.