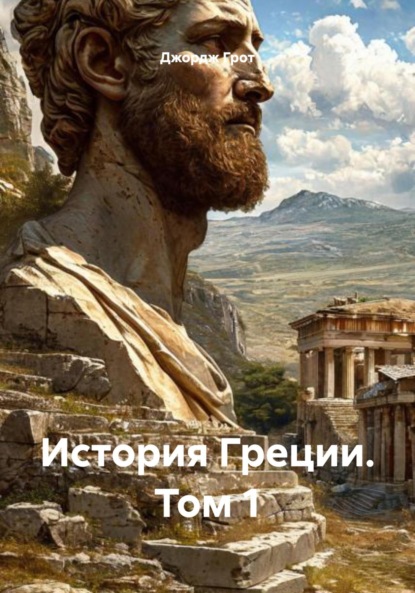- -
- 100%
- +
Любимым сюжетом как для древних генеалогических поэтов, так и для афинских трагиков были приключения Ио. Будучи жрицей Геры в древнем и прославленном Герайо́не между Микенами и Аргосом, она возбудила любовь Зевса. Когда Гера раскрыла их связь и упрекнула его, он отрицал свою вину и превратил Ио в белую корову. Гера потребовала, чтобы корова была отдана ей, и поручила стеречь её Аргосу Пано́пту. Но Гермес, по приказу Зевса, убил стража, и тогда Гера изгнала корову Ио из её родной земли, наслав на неё овода, чьи беспрестанные укусы заставили её скитаться без отдыха и пищи по необъятным чужим землям.
Странствуя, Ио дала своё имя Ионийскому заливу, прошла через Эпир и Иллирию, пересекла хребет Гема и высокие вершины Кавказа, переплыла Фракийский (или Киммерийский) Боспор (также названный в её честь) и попала в Азию. Затем она прошла через Скифию, Киммерию и многие азиатские земли, пока не достигла Египта, где Зевс наконец даровал ей покой, вернул человеческий облик и позволил родить своего чёрного сына Эпа́фа.[189]
Краткое изложение приключений Ио.Таков общий очерк приключений, которые древние поэты – эпические, лирические и трагические, а вслед за ними и логографы, связывали с именем аргосской Ио – одной из многих историй, выдуманных греками на тему любвеобильности Зевса и ревности Геры. Естественно, что действие происходит в Арголиде, учитывая, что и Аргос, и Микены находились под особым покровительством Геры, а Герайон между ними был одним из древнейших и славнейших её храмов.
Любопытно сравнить этот занимательный вымысел с версией, переданной Геродотом и заимствованной им у финикийских и персидских историков, о событиях, приведших к переселению Ио из Аргоса в Египет – факте, который все они признавали историческим.
Версия персов и финикийцев.По словам персов, финикийский корабль прибыл в порт близ Аргоса с товарами для продажи. Через несколько дней, когда большая часть груза была распродана, несколько аргосских женщин, включая царскую дочь Ио, поднялись на борт для покупок, но были схвачены командой и увезены, а Ио продали в Египте.[190]
Финикийские же историки, признавая, что Ио покинула родину на их корабле, объясняли это иначе: она бежала добровольно, вступив в связь с капитаном и опасаясь, что родители узнают о её беременности.
И персы, и финикийцы описывали похищение Ио как первое в череде взаимных захватов женщин греками и азиатами. Затем последовали:
Похищение Европы из Финикии греками (возможно, критянами).
Увоз Медеи из Колхиды Ясоном, что вызвало ответное похищение Елены Парисом.
До этого момента захваты женщин греками и азиатами были равны по числу и жестокости. Но затем греки организовали масштабный поход за Еленой, разрушив Трою. Вторжения Дария и Ксеркса в Грецию персы считали запоздалой местью за деяния Агамемнона и его сподвижников.[191]
Историзация мифа.Эта версия приключений Ио, в отличие от исконного мифа, показывает, как эпические предания о далёком прошлом переосмыслялись в угоду современным представлениям. Религиозно-поэтический колорит уступил место сухому псевдоисторическому повествованию, ценному лишь как обоснование персидско-греческих конфликтов, волновавших Геродота и его читателей.[192]
Продолжение царской генеалогии Аргоса.Иасу наследовал Крото́п, сын его брата Агенора; затем Сфенел, а после него – Гелано́р. В его правление Данай с пятьюдесятью дочерьми прибыл из Египта в Аргос, и здесь разворачивается ещё одна романтическая история, украшающая сухие мифические родословные.
История Даная и его дочерей.
Данай и Египт, потомки Эпафа (сына Ио), были братьями. У Египта было пятьдесят сыновей, желавших жениться на пятидесяти дочерях Даная, несмотря на его сопротивление. Чтобы избежать этого, Данай посадил дочерей на пентеконтеру (корабль с пятьюдесятью вёслами) и бежал в Аргос, по пути остановившись на Родосе, где воздвиг статую Афины в Линде – памятник своего пребывания.[193]
Египт с сыновьями последовал за ним, и Данай, вынужденный согласиться на браки, в брачную ночь дал каждой дочери кинжал, приказав убить мужей. Все, кроме Гипермнестры, выполнили приказ. Она пощадила Линкея, за что была наказана отцом, но позже прощена. Когда Данай стал царём Аргоса (после добровольного отречения Геланора), Линкей был признан его наследником. Остальные дочери, очищенные Афиной и Гермесом, были выданы за победителей гимнастических состязаний.
От Даная произошло имя «данайцы», которым называли жителей Арголиды, а в гомеровском эпосе – всех греков вообще.
От легенды о Данаидах мы переходим к двум малозначительным именам царей – Линкею и его сыну Абанту. Два сына Абанта, Акрисий и Прет, после долгих распрей разделили между собой Арголиду: Акрисий стал править в Аргосе, а Прет – в Тиринфе. Обе их семьи стали основой для романтических сказаний. Оставив пока в стороне легенду о Беллерофонте и безответную страсть, которую жена Прета к нему питала, мы узнаём, что дочери Прета, прекрасные и желанные невестами для женихов со всей Греции, были поражены проказой и лишились рассудка, странствуя в непристойном виде по всему Пелопоннесу. Постигшее их наказание, согласно Гесиоду, случилось потому, что они отказались участвовать в вакхических обрядах; по версии Ферекида и аргосского Акусилая[194], – потому, что они презрительно отнеслись к деревянной статуе и скромным атрибутам Геры: здесь религиозный характер древнего мифа проявляется особенно ярко.
Не сумев исцелить дочерей, Прет призвал на помощь знаменитого пилосского прорицателя и врачевателя Мелампа, сына Амифаона, который согласился избавить их от недуга при условии, что получит треть царства. Прет с возмущением отверг эти условия, но, когда состояние его дочерей ухудшилось и стало невыносимым, он был вынужден вновь обратиться к Мелампу. Тот при повторном обращении повысил свои требования, потребовав ещё треть царства для своего брата Бианта. Когда условия были приняты, он выполнил свою часть договора: умилостивил гнев Геры молитвами и жертвоприношениями; или, согласно другому рассказу, приблизился к обезумевшим женщинам во главе отряда юношей, с криками и экстатическими плясками – обрядами, присущими вакхическому культу Диониса, – и таким образом исцелил их.
Меламп, имя которого прославлено во многих греческих мифах, считается легендарным основателем и родоначальником великой и долговечной династии прорицателей. Он и его брат Биант стали царями разных частей Арголиды: в «Одиссее» Меламп упоминается как правитель этих земель, а его внук, прорицатель Феоклимен, находит защиту у Телемаха и отправляется с ним на Итаку[195]. Геродот также упоминает об исцелении женщин и о двойном царствовании Мелампа и Бианта в Арголиде, признавая Мелампа первым, кто познакомил греков с именем и культом Диониса, включая соответствующие жертвоприношения и фаллические процессии. Здесь он вновь историзирует элементы древнего мифа, что заслуживает внимания[196].
Однако Даная, дочь Акрисия, и её сын Персей[стр. 90] стяжали ещё большую славу, чем её двоюродные сёстры, дочери Прета. Оракул предупредил Акрисия, что его дочь родит сына, от руки которого он погибнет. Чтобы избежать этой угрозы, Акрисий заточил Данаю в подземную медную темницу. Но бог Зевс воспылал к ней страстью и проник к ней через крышу в виде золотого дождя: результатом их союза стало рождение Персея. Когда Акрисий обнаружил, что у его дочери есть сын, он запер обоих в ящик и бросил его в море[197]. Ящик прибило к острову Серифу, где Диктис, брат царя Полидекта, выловил его и спас Данаю с Персеем.
Подвиги Персея, когда он вырос, – его борьба с тремя Форкидами (дочерьми Форкия) и тремя Горгонами – относятся к числу самых фантастических и поэтичных во всей греческой мифологии, почти восточных по колориту. Я не буду здесь подробно пересказывать, как с особой помощью Афины он преодолел эти невероятные испытания и принёс из Ливии ужасающую голову Горгоны Медузы, обладающую способностью обращать в камень каждого, кто на неё взглянет. На обратном пути он спас Андромеду, дочь Кефея, которую выставили на съедение морскому чудовищу, и взял её в жёны.
Акрисий, узнав о его победоносном возвращении, в страхе бежал в Фессалию, но Персей последовал за ним. Там, желая успокоить деда, он принял участие в гимнастических состязаниях, где Акрисий был среди зрителей. Неосторожно метнув диск, Персей случайно убил Акрисия – и предсказание оракула сбылось. Охваченный раскаянием и не желая возвращаться в Аргос, бывший владением Акрисия, Персей обменялся царствами с Мегапенфом, сыном Прета, царя Тиринфа. Мегапенф стал царём Аргоса, а Персей – Тиринфа. Более того, Персей основал в десяти милях от Аргоса знаменитые Микены. Мощные стены этого города[стр. 91], как и стены Тиринфа, чьи руины сохранились до наших дней, были построены для него ликийскими киклопами[198].
Здесь начинается династия Персеидов в Микенах. Однако следует отметить, что в древних преданиях существовали противоречивые версии основания города. Как «Одиссея», так и «Великие Эои» упоминают среди героинь Микену, эпонимическую основательницу города: первая поэма ставит её в один ряд с Тиро и Алкменой, вторая описывает её как дочь Инаха и жену Арестора. Акусилай же называет эпонимом Микенея, сына Спартона и внука Форонея[199].
Пророческая династия Мелампа сохраняла власть в одной из трёх частей разделённой Арголиды на протяжении пяти поколений, вплоть до Амфиарая и его сыновей Алкмеона и Амфилоха. Династия его брата Бианта и династия Мегапенфа, сына Прета, продолжались по четыре поколения: промежуток заполнен перечнем ничего не значащих имён[200]. Персеиды Микен гордились долгой и славной родословной, героической и исторической, вплоть до последних царей Спарты[201]. Потомство Персея было многочисленным: его сын Алкей стал отцом Амфитриона; другой сын, Электрион, – отцом Алкмены[202]; третий, Сфенел, – отцом Еврисфея.
После смерти Персея Алкей и Амфитрион жили в Тиринфе. Последний поссорился с Электрионом из-за скота и в приступе гнева убил его[203]. Более того, пираты-тафийцы с западного побережья Акарнании вторглись в страну и убили сыновей Электриона, так что Алкмена осталась единственной представительницей этого рода. Она была обручена с Амфитрионом, но взяла с него клятву не вступать с ней в брак, пока он не отомстит тельбоям за смерть её братьев. Амфитрион, вынужденный бежать как убийца дяди, нашёл приют в Фивах, куда за ним последовала Алкмена; Сфенел же остался править в Тиринфе.
Кадмейцы Фив вместе с локрийцами и фокейцами дали Амфитриону войско, с которым он выступил против тельбоев и тафийцев[204], но не смог бы победить их без помощи Комайфо, дочери тафийского царя Птерелая, которая, полюбив его, отрезала у своего отца золотой локон, даровавший ему бессмертие от Посейдона[205]. Одержав победу и изгнав врагов, Амфитрион вернулся в Фивы, жаждая завершить брак, но в первую брачную ночь Зевс принял его облик и явился к Алкеме раньше него: он решил, что от неё родится сын, превосходящий всех его прежних потомков – «образец непобедимой силы для богов и смертных»[206].
В положенный срок Алкмена родила близнецов: Геракла – сына Зевса, и ничем не примечательного Ификла – сына Амфитриона[207]. Когда Алкмена была на пороге родов в Фивах, Зевс публично похвалялся перед собравшимися богами, подстрекаемый коварной Атой, что в этот день на земле родится сын из его рода, который будет править всеми соседями. Гера сочла это пустым хвастовством и потребовала, чтобы он связал себя нерушимой клятвой, что предсказание сбудется. Зевс неосторожно дал торжественное обещание; тогда Гера стремительно помчалась с Олимпа в ахейский Аргос, где жена Сфенела (сына Персея, а значит, внука Зевса) уже была на седьмом месяце беременности. С помощью Илифий, богинь родов, она ускорила рождение Еврисфея, сына Сфенела, в тот же день, а роды Алкмены задержала. Затем, вернувшись на Олимп, она объявила Зевсу: «Сегодня родился доблестный Еврисфей, сын Персеида Сфенела, от твоего семени: скипетр аргивян по праву принадлежит ему». Зевс был потрясен тем, что сам неосмотрительно обязался исполнить. Он схватил за волосы Ату, свою злокозненную советчицу, и навсегда низвергнул ее с Олимпа, но не мог отменить возвышение Еврисфея и рабство Геракла. «Много страданий перенес он, видя, как его любимый сын терпит унижения, выполняя задания, навязанные Еврисфеем»[208].
Этот легендарный сюжет, несомненно древний и приведенный здесь по «Илиаде», – один из самых значимых и характерных в греческой мифологии. Он объясняет, в соответствии с религиозными представлениями древних эпических поэтов, как отличительные черты, так и бесконечные труды и страдания Геракла – самого прославленного и вездесущего из всех полубожественных персонажей, почитаемых эллинами. Он – существо неодолимой силы, особенно любимое Зевсом, но обреченное постоянно трудиться для других и подчиняться приказам ничтожного и трусливого преследователя. Его награда ждет его лишь в конце пути, когда тяжкие испытания завершатся: тогда он будет обожествлен и получит в жены Гебу[209].
Двенадцать подвигов, как их называют, – слишком известные, чтобы подробно описывать их здесь, – составляют лишь малую часть деяний этого могучего героя, которыми наполнены древние Гераклейские эпосы. Его можно встретить не только в большинстве областей Эллады, но и во всех других землях, известных тогда грекам, – от Гадеса до реки Фермодон в Понте и до Скифии, – где он преодолевает все трудности и побеждает всех врагов. Повсюду знатные семьи возводят к нему свою родословную и гордятся тем, что считаются его потомками. Среди ахейцев, кадмейцев и дорийцев Геракл почитается: последние особенно видят в нем своего главного героя – покровителя-бога их рода. Гераклиды у всех дорийцев образуют привилегированный род, к которому в Спарте принадлежала и царская династия.
Его характер порождает бесчисленные мифы, различающиеся по своему содержанию. Неодолимая сила остается неизменной, но иногда она проявляется в безрассудной жестокости против друзей и врагов, а иногда – в помощи угнетенным. Комические поэты часто изображали его грубым и глупым обжорой, в то время как афинский философ Продик, не искажая сути образа, создал на его основе простую, впечатляющую и бессмертную притчу, известную как «Выбор Геракла».
После смерти и обожествления Геракла его сын Гилл и другие дети были изгнаны и преследовались Еврисфеем: страх перед его местью удерживал как трахинского царя Кеика, так и фиванцев от того, чтобы приютить их, и только афиняне оказались достаточно великодушными, чтобы рискнуть дать им убежище. Еврисфей вторгся в Аттику, но погиб в этой попытке от руки Гилла или Иолая, старого спутника и племянника Геракла[210]. Рыцарская отвага, которую афиняне проявили в этом случае, защищая невинно угнетенных, стала излюбленной темой для восхваления у аттических поэтов и ораторов.
Все сыновья Еврисфея погибли вместе с ним в битве, так что род Персеидов теперь представляли только Гераклиды, которые собрали войско и попытались вернуть утраченные владения[211]. Объединенные силы ионийцев, ахейцев и аркадцев, населявших тогда Пелопоннес, встретили захватчиков на перешейке, где Гилл, старший из сыновей Геракла, предложил решить спор поединком между ним и любым чемпионом противоборствующей армии. Было согласовано, что если Гилл победит, Гераклиды будут восстановлены в своих правах; если же он проиграет, они откажутся от претензий на сто лет, пятьдесят лет или три поколения – в разных источниках сроки различаются. Эхем, герой Тегеи в Аркадии, принял вызов, и Гилл пал в схватке, после чего Гераклиды отступили и поселились среди дорийцев под защитой Эгимия, сына Дора[211]. Как только оговоренный срок перемирия истек, они возобновили попытку завоевать Пелопоннес совместно с дорийцами и добились полного успеха: так возникли великие дорийские государства – Аргос, Спарта и Мессения. Подробности этого победоносного вторжения будут изложены далее.
Сикион, Флиунт, Эпидавр и Трезен[212] – все гордились своими уважаемыми эпонимами и длинной родословной, не избежав обычных противоречий, но все они имеют такое же право на место в истории, как более известные Эолиды или Гераклиды. Я опускаю их здесь, чтобы сосредоточиться на ключевых чертах и характере легендарного мира, а не перегружать память читателя длинным перечнем мифологических имен[с. 96].
Глава V. Девкалион, Эллин и сыновья Эллина
В «Теогонии» Гесиода, как и в «Трудах и днях», миф о Прометее и Эпиметее имеет религиозное, этическое и социальное значение, и в этом ключе он развивается Эсхилом; но ни одному из этих персонажей не отводится генеалогической функции. В «Каталоге женщин» Гесиода оба были включены в поток греческих легендарных родословных: Девкалион назван сыном Прометея и Пандоры, а его жена Пирра, по-видимому, – дочерью Эпиметея[213].
Девкалион важен в греческих мифах с двух точек зрения. Во-первых, он – тот, кто был спасен во время всемирного потопа. Во-вторых, он – отец Эллина, великого эпонима эллинской расы; по крайней мере, такова более распространенная версия, хотя были и другие утверждения, что Эллин – сын Зевса.
Имя Девкалиона изначально связано с локрийскими городами Кин и Опунт, а также с народом лелегов, но в конце концов он оказывается поселившимся в Фессалии и правящим в области Фтиотида[214]. Согласно старой легендарной версии, именно потоп перенес его из одной земли в другую; но по другой версии, созданной в более историзированные времена, он привел в Фессалию отряд куретов и лелегов и изгнал прежних пеласгийских жителей[215].
Чудовищная нечестивость, которой была осквернена земля – по словам Аполлодора, из-за тогдашнего медного поколения, или, как говорят другие, из-за пятидесяти ужасных сыновей Ликаона, – побудила Зевса наслать всеобщий потоп[216]. Непрерывный и страшный ливень затопил всю Грецию, кроме самых высоких горных вершин, где нашли приют немногие уцелевшие. Девкалион был спасен в сундуке или ковчеге, который он по совету отца Прометея заранее построил. Девять дней носился он по воде, пока наконец не пристал к вершине Парнаса. Зевс послал к нему Гермеса с обещанием исполнить любое его желание, и Девкалион попросил, чтобы ему были дарованы люди и спутники в его одиночестве. Тогда Зевс велел ему и Пирре бросать камни через голову: те, что бросила Пирра, стали женщинами, а те, что Девкалион, – мужчинами. Так появился «каменный род людей» (если позволительно перевести этимологию, которую греческий язык передает точно и которая не была отвергнута ни Гесиодом, ни Пиндаром, ни Эпихармом, ни Вергилием), заселивший землю Греции[217].Реальность этого потопа твердо признавалась на протяжении всех исторических эпох Греции: хронографы, вычисляя даты по генеалогиям, установили точное время его возникновения и отнесли его к тому же периоду, что и пожар мира, вызванный безрассудством Фаэтона, во время правления Кротопа, царя Аргоса, седьмого по счету от Инаха.[219] Метеорологический труд Аристотеля признает и анализирует этот потоп как неоспоримый факт, хотя и смещает его локализацию, помещая его к западу от Пинда, близ Додоны и реки Ахелоя.[220] При этом он рассматривает его как физическое явление, результат периодических атмосферных циклов, тем самым отходя от религиозного характера древнего предания, описывавшего его как кару Зевса, обрушенную на нечестивое поколение.
Утверждения, основанные на этом событии, циркулировали по всей Греции вплоть до очень позднего времени. Мегарцы утверждали, что их герой Мегарос, сын Зевса от местной нимфы, спасся от вод на высокой вершине их горы Герании, которая не была полностью затоплена. А в величественном храме Олимпийского Зевса в Афинах показывали углубление в земле, через которое, как утверждалось, ушли воды потопа. Даже во времена Павсания жрецы совершали в это углубление возлияния священных даров – муки и меда.[221] Здесь, как и в других частях Греции, идея Девкалионова потопа сливалась с религиозными представлениями народа и отмечалась священными обрядами.
У Девкалиона и Пирры было два сына – Эллин и Амфиктион, и дочь Протогенея, чьим сыном от Зевса был Этлий. Однако многие считали, что Эллин был сыном Зевса, а не Девкалиона. Эллин от нимфы родил трех сыновей – Дора, Ксуфа и Эола. Он дал тем, кого прежде называли греками,[222] имя эллинов и разделил свои владения между тремя сыновьями. Эол правил в Фессалии; Ксуф получил Пелопоннес и от Креусы родил Ахея и Иона; а Дор занял земли к северу от Коринфского залива, напротив Пелопоннеса. Эти трое дали жителям своих стран имена эолийцев, ахейцев, ионийцев и дорийцев.[223]
Такова генеалогия, как мы находим ее у Аполлодора. Что касается имен и родственных связей, то многие пункты в ней излагаются иначе или косвенно оспариваются Еврипидом и другими авторами. Хотя как буквальная и личностная история она не заслуживает[стр. 100] внимания, ее смысл понятен и всеобъемлющ. Она объясняет и символизирует первое братское объединение эллинских народов, их территориальное распределение и институты, которые они совместно почитали.
Были две великие объединяющие точки для всех греков. Первая – Амфиктиония, собиравшаяся дважды в год попеременно в Дельфах и у Фермопил; изначально и главным образом для общих религиозных целей, но косвенно и иногда включавшая также политические и социальные вопросы. Вторая – общественные празднества или игры, из которых Олимпийские были важнейшими; затем Пифийские, Немейские и Истмийские – институты, сочетавшие религиозные церемонии с праздничным весельем и сердечным единением так величественно и беспрецедентно. Амфиктион олицетворяет первое из этих учреждений, а Этлий – второе. Поскольку Амфиктиония была особенно связана с Фермопилами и Фессалией, Амфиктион назван сыном фессалийца Девкалиона; но поскольку Олимпийские игры не были локально связаны с Девкалионом, Этлий представлен как сын Зевса, связанный с Девкалионом лишь по материнской линии. Далее будет видно, что единственное, что предсказано об Этлии, – это то, что он поселился в Элиде и породил Эндимиона: это связывает его с Олимпийскими играми, после чего его роль завершается.
Таким образом, получив Элладу как целое с ее основными скрепляющими силами, мы переходим к ее разделению на части через Эола, Дора и Ксуфа, трех сыновей Эллина;[224] это деление далеко не исчерпывающее, однако генеалогисты, которых следует Аполлодор, признают только трех сыновей.
Генеалогия по сути постгомеровская; ведь Гомер знает Элладу и эллинов лишь в связи с частью [стр. 101] Ахайи Фтиотиды. Но поскольку она признана в «Каталоге» Гесиода [225] – составленном, вероятно, в течение первого века после начала зафиксированных Олимпиад, то есть до 676 г. до н. э. – её особенности, восходящие к столь раннему периоду, заслуживают большого внимания.
Можно отметить, во-первых, что она, кажется, представляет Дора и Эола как единственных чистых и подлинных потомков Эллина. Их брат Ксуф не включён в число эпонимов; он не основывает и не называет ни один народ; лишь его сыновья Ахей и Ион, после смешения его крови с кровью эрехтеиды Креусы, становятся эпонимами и родоначальниками, каждый своего отдельного народа.
Далее, что касается территориального распределения: Ксуф получает Пелопоннес от своего отца и соединяется с Аттикой (которую автор этой генеалогии, видимо, считал изначально не связанной с Эллином) через брак с дочерью автохтонного героя Эрехтея. Потомство этого брака, Ахей и Ион, показывает нам население Пелопоннеса и Аттики как связанных между собой узами братства, но на одну степень более отдалённых как от дорийцев, так и от эолийцев.
Эол правит областями вокруг Фессалии и называет народ тех мест эолийцами, в то время как Дор занимает «страну напротив Пелопоннеса на противоположной стороне Коринфского залива» и называет жителей по своему имени – дорийцами [226]. Сразу видно, что [стр. 102] это обозначение никак не применимо к узкому району между Парнасом и Этой, который единственный известен под именем Дорида, а его жители – как дорийцы, в исторические времена.
С точки зрения автора этой генеалогии, дорийцы – изначальные обитатели обширной территории к северу от Коринфского залива, включая Этолию, Фокиду и земли озольских локров. Это также согласуется с другим преданием, упомянутым Аполлодором, где говорится, что Этол, сын Эндимиона, будучи вынужден покинуть Пелопоннес, переправился в землю куретов [227] и был там гостеприимно принят Дором, Лаодоком и Полипетом, сыновьями Аполлона и Фтии. Он убил своих хозяев, завладел территорией и дал ей имя Этолия. Его сын Плеврон женился на Ксанфиппе, дочери Дора, а другой сын, Калидон, – на Эолии, дочери Амифаона. Здесь мы снова видим имя Дора (или дорийцев), связанное с областью, позже названной Этолией.
То, что Дор в одном месте назван сыном Аполлона и Фтии, а в другом – сыном Эллина от нимфы, не удивит тех, кто привык к изменчивой номенклатуре личных имён в этих древних преданиях. Более того, имя Фтии легко согласуется с именем Эллина, так как оба отождествляются с одной и той же частью Фессалии ещё со времён «Илиады».