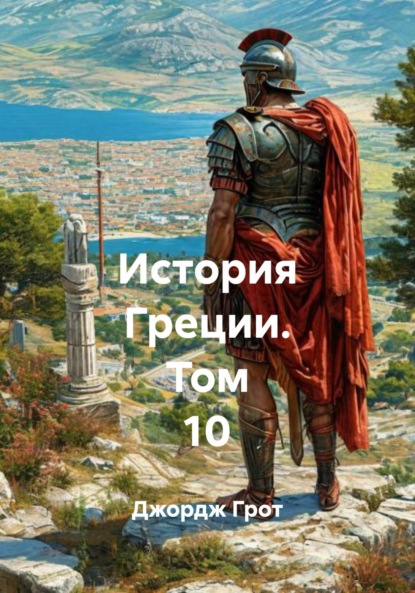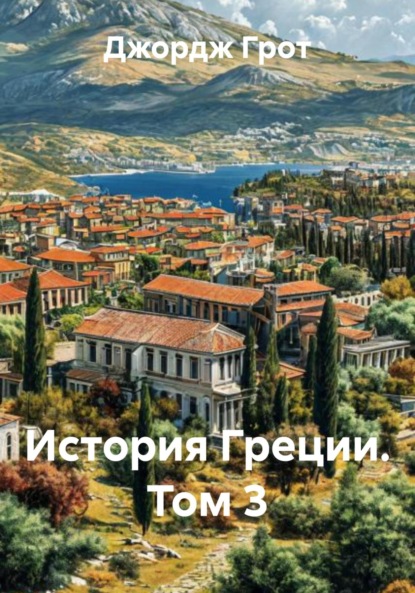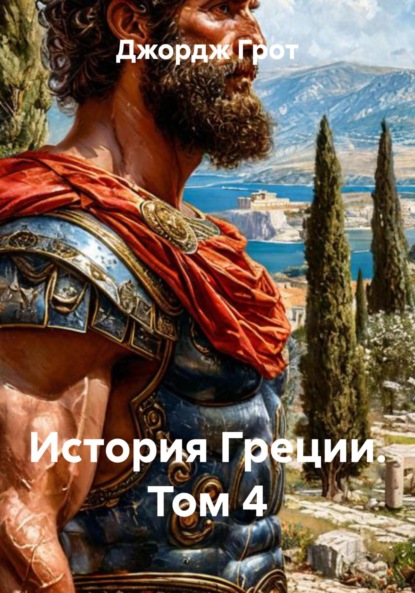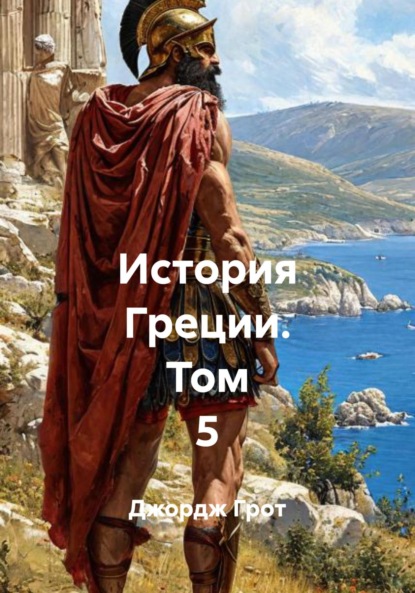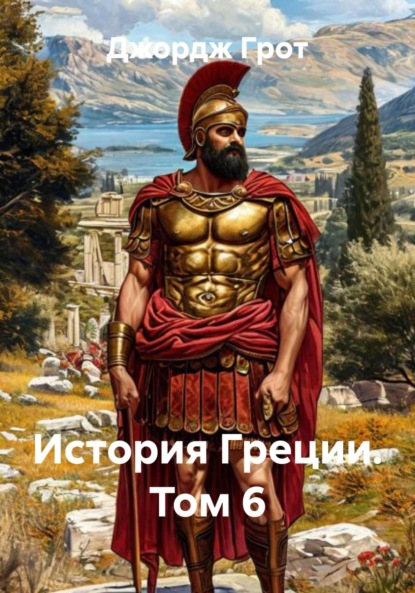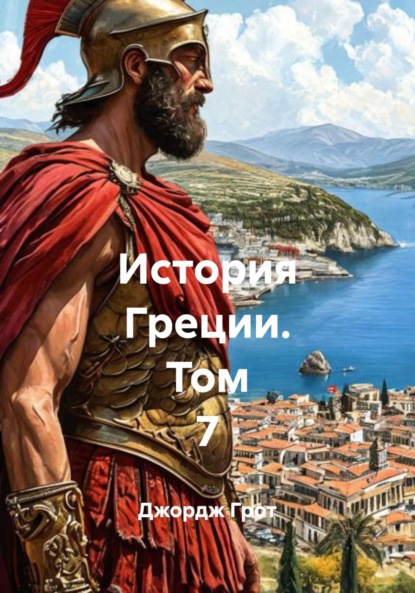Десятый том «Истории Греции» Джорджа Грота посвящён критическому периоду эллинской истории — от навязанного Персией Анталкидова мира (387 г. до н.э.), закрепившего спартанскую гегемонию, до битвы при Мантинее (362 г. до н.э.) и смерти Эпаминонда. В фокусе исследования — механизмы деспотического контроля Спарты над Грецией, её конфликты с Фивами и Афинами, а также глубокий политический кризис, вызванный её имперской политикой. Грот детально анализирует ключевые события: разрушение Мантинеи, олинфские войны, фиванский переворот и блистательные победы Эпаминонда при Левктрах, которые навсегда подорвали военный миф Спарты. Особое внимание уделяется роли личности в истории: образу мудрого и стратегически гениального Эпаминонда, трагической фигуры Пелопида, а также началу возвышения Македонии. Том завершается масштабным экскурсом в историю Сицилии, где разворачивается драма тирании Дионисия Старшего, что задаёт сюжет для следующего тома.
- Книги
- Аудиокниги
- Жанры
- Cаморазвитие / личностный рост
- Зарубежная психология
- Попаданцы
- Боевая фантастика
- Современные детективы
- Любовное фэнтези
- Зарубежные детективы
- Современные любовные романы
- Боевое фэнтези
- Триллеры
- Современная русская литература
- Зарубежная деловая литература
- Космическая фантастика
- Современная зарубежная литература
- Все жанры
- Бесплатные книги
- Серии
- Черновики
Вход В личный кабинетРегистрация