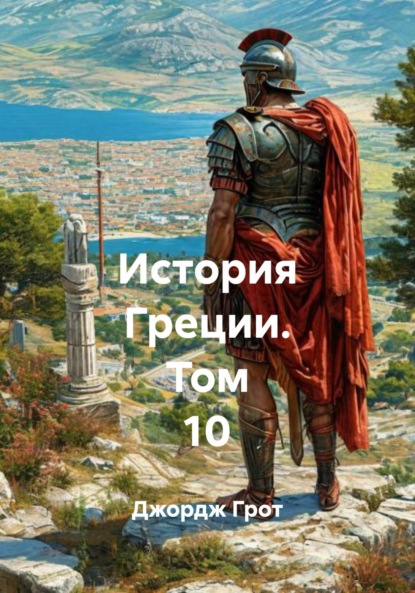- -
- 100%
- +
Её первая просьба к Великому царю с этой целью относится к [с. 6] началу Пелопоннесской войны и сопровождается унизительным, почти что подобострастным, оправданием царя Архидама; который, сознавая, что замышляет нечто вроде предательства, утверждает, что Спарта, когда афиняне против неё замышляют, не заслуживает порицания за то, что просит помощи для своего спасения как у иностранцев, так и у греков. [13] С самого начала и до седьмого года войны спартанцы отправили в Сузы множество отдельных последовательных посольств; двое из которых были схвачены во Фракии, доставлены в Афины и там казнены. Остальные достигли цели, но говорили так путано и так противоречили друг другу, что персидский двор, не понимая, чего они хотят, [14] отправил Артаферна с письмами в Спарту (на седьмом году войны), жалуясь на их глупость и требуя более ясных объяснений. Артаферн попал в руки афинской эскадры у Эйона на Стримоне и был доставлен в Афины; где с ним обошлись весьма вежливо и отправили обратно (после изучения писем, которые он вёз) в Эфес. Что ещё важнее отметить, так это то, что вместе с ним были отправлены афинские послы, с целью наладить дружественные отношения Афин с Великим царём; чему помешала лишь смерть Артаксеркса Долгорукого, случившаяся как раз в это время. Здесь мы видим пагубную практику, порождённую междоусобной войной, – обращение за помощью к персам; начатую Спартой как настойчивым просителем, – и частично перенятую Афинами, хотя мы и не знаем, что именно их послам было поручено сказать, доберись они до Суз.
Ничего более не слышно о персидском вмешательстве вплоть до года великих афинских поражений под Сиракузами. Воодушевлённые надеждами, вызванными этим событием, персы уже не нуждались в просьбах, но сами были столь же готовы вмешаться ради своих целей, как Спарта – призвать их ради своих. Насколько Спарта была готова купить их помощь ценой предательства малоазийских [с. 7] греков, причём без каких-либо условий в их пользу, – было рассказано в моём предыдущем томе. [15] Теперь у неё не было даже оправдания – ибо это лишь оправдание, но не оправдывающее основание – самообороны против афинской агрессии, на которое ссылался Архидам в начале войны. Даже тогда это было лишь правдоподобное оправдание, не подтверждавшееся реальностью; но теперь заявленная и действительная цель была совсем иной – не отразить, а уничтожить Афины. И ради достижения этой цели, связанной не с мнимой безопасностью, а с чистой амбицией, Спарта безоговорочно пожертвовала свободой своих малоазийских сородичей; цену, которую Архидам в начале войны, несмотря на тогдашнюю мощь Афин, несомненно, даже помыслить не мог заплатить. Здесь же мы видим, что Афины последовали её примеру и, надеясь получить персидскую помощь, согласились на подобную жертву, хотя сделка так и не состоялась. Правда, тогда они боролись за само своё существование. Тем не менее, эти факты печально свидетельствуют о том, насколько ослабело чувство общеэллинской независимости у обоих лидеров в ходе ожесточённой междоусобной борьбы, завершившейся битвой при Эгоспотамах. [16] [с. 8]
После этой битвы сделка между Спартой и Персией, несомненно, была бы исполнена, и малоазийские греки сразу перешли бы под власть последней, – если бы не совершенно новый ряд обстоятельств, вызванных крайне необычным положением и замыслами Кира. Этот юный царевич делал всё возможное, чтобы завоевать симпатии греков как союзников для своих честолюбивых планов; в которых участвовали и Спарта, и малоазийские греки, безвозвратно скомпрометировав себя против Артаксеркса и особенно против Тиссаферна. Спарта таким образом невольно стала врагом Персии и была вынуждена защищать малоазийских греков от его враждебности, которой они подвергались; защита, которую ей было легко осуществить не только благодаря безграничной власти, которой она тогда пользовалась в греческом мире, но и благодаря присутствию прославленных десяти тысяч Кирова наёмников и презрению к персидской военной мощи, которое они принесли с собой после своего отступления. Так она оказывается в роли общеэллинского защитника или гегемона, сначала через посредничество Деркиллида, затем Агесилая, который даже приносит жертвы в Авлиде, берёт скипетр Агамемнона и замышляет широкие планы нападения на Великого царя. Однако здесь персы разыгрывают против неё ту же игру, которую она сама призывала их вести против Афин. Их флот, который пятнадцать лет назад она сама приглашала ради своих целей, теперь используется против неё самой, и с гораздо большим успехом, поскольку её империя была ненавистнее и деспотичнее Афинской. Теперь уже Афины и их союзники призывают персидскую помощь; правда, без прямого обязательства предать малоазийских греков, ибо мы знаем, что после битвы при Книде Конон навлёк на себя недовольство персов своими планами по воссоединению их с Афинами, [17] и афинская помощь всё ещё оказывалась Эвагору, – но тем не менее косвенно подготавливая почву для этого исхода. Если Афины и их союзники здесь виновны в отречении от общеэллинских идеалов, можно заметить, как и прежде, что они действовали под давлением более серьёзных обстоятельств, чем те, на которые могла ссылаться Спарта; и что они могли с гораздо большим основанием использовать оправдание самосохранения, приведённое царём Архидамом. [с. 9]
Но никогда это оправдание не было менее уместным, чем в случае миссии Анталкида. Спарта в то время была настолько могущественна, даже после потери своей морской империи, что союзники на Коринфском перешейке, ревнивые друг к другу и объединённые лишь общим страхом, едва могли держать оборону против неё, и, вероятно, разъединились бы при разумных предложениях с её стороны; ей даже не понадобилось бы отзывать Агесилая из Азии. Тем не менее, миссия, вероятно, была продиктована в значительной степени беспочвенной паникой, вызванной видом восстановленных Длинных стен и заново укреплённого Пирея, и мгновенно породившей фантазию, что новая Афинская империя, подобная существовавшей сорок лет назад, вот-вот возродится; фантазию, едва ли осуществимую, поскольку совершенно особые обстоятельства, создавшие первую Афинскую империю, теперь полностью изменились. Лишённая возможности создать морскую империю сама, Спарта прежде всего стремилась не допустить к этому Афины; во-вторых, подавить все частичные федерации или политические союзы и навязать всеобщую автономию, или максимальную политическую раздробленность; чтобы нигде не могла возникнуть сила, способная противостоять ей, сильнейшему из отдельных государств. Как средство для этой цели, столь же выгодной Персии, сколь и ей, она переплюнула все прежние формы угодливости перед Великим царём, предав ему не только целую часть своих эллинских сородичей, но и вообще честь эллинского имени самым вопиющим образом, – и добровольно встала на путь медизма, чтобы персы взамен встали на путь лаконства. [18] Чтобы полностью обеспечить покорность всех сатрапов, которые не раз выказывали собственные несогласные взгляды, Анталкид добился и привёз формальный указ, подписанный и скреплённый печатью в Сузах; и Спарта взяла на себя – без стыда и угрызений совести – обязанность навязать этот указ, – «постановление, присланное царём», – всем своим соотечественникам; превратив их таким образом в подданных, а себя – в своего рода наместника или сатрапа Артаксеркса. Этот акт предательства общеэллинского дела был гораздо более вопиющим и разрушительным, чем та предполагаемая связь с персидским царём, за которую фиванец Исмений впоследствии был казнён, причём [с. 10] самими спартанцами. [19] К несчастью, это стало прецедентом для будущего и вскоре было скопировано Фивами; [20] предвещая, увы, скорый конец политической независимости Греции.
Тот великий патриотический дух, который продиктовал великодушный ответ афинян [21] на предложения Мардония в 479 г. до н.э., отказавшихся среди настоящих и будущих бедствий от всех соблазнов предать святость общеэллинского братства, – этот дух, который в течение двух последующих поколений был главным вдохновением Афин и, хотя в меньшей степени, также присутствовал в Спарте, – теперь в первых был подавлен более насущными опасениями, а в последней полностью угас. Теперь Греции приходилось смотреть на ведущие государства, чтобы они подняли великое знамя общеэллинской независимости; от малых государств требовалось лишь примкнуть к нему и защищать его, когда оно будет поднято. [22] Но как только Спарта стала добиваться и навязывать, а Афины (даже под принуждением) приняли прокламацию, скрепленную царской печатью и доставленную Анталкидом, – это знамя перестало быть частью публичной символики гре [p. 11] ческой политической жизни. Великая идея, которую оно олицетворяло, – идея коллективного самоопределяющегося эллинизма, – осталась жить лишь в сердцах отдельных патриотов.
Если мы рассмотрим договор Анталкида, отвлекаясь от его формы и гарантий, и сосредоточимся на его сути, то обнаружим, что хотя его первая статья была однозначно позорной, последняя, по крайней мере, звучала привлекательно для слуха. Всеобщая автономия для каждого города, малого или великого, была дорога политическому инстинкту греков. Я уже не раз отмечал, что преувеличенная сила этого желания была главной причиной кратковременности греческой свободы. Поглощая все жизненные силы отдельных частей, оно не оставляло жизненной силы или целостности целому; в частности, лишало как каждого, так и всех возможности защищаться от внешних врагов. Хотя до определенного момента и при определенных условиях оно было необходимо, за этими пределами, которые греческий политический инстинкт далеко не осознавал, оно приносило больше вреда, чем пользы. Поэтому, хотя этот пункт договора звучал привлекательно и был популярен – и хотя впоследствии мы увидим, как его ссылаются как на защиту в различных случаях несправедливости, – мы должны изучить, как он был реализован, прежде чем решить, был ли он добром или злом, даром друга или врага.
Последующие страницы дадут ответ на этот вопрос. Лакедемоняне, как «гаранты (или исполнители) мира, назначенные царем», [23] взяли на себя обязанность его исполнения; и мы увидим, что с самого начала они действовали неискренне. Они даже не пытались честно и последовательно следовать чистому, хотя и неразборчивому, политическому инстинкту греков; тем более они не стремились дать столько, сколько было действительно полезно, и удержать остальное. Они определяли автономию так и распределяли её в таких дозах, которые соответствовали их собственным политическим интересам и целям. [p. 12] Обещание, данное договором, за исключением случаев, когда оно позволяло им увеличивать свою власть путем раздробления или вмешательства в партийные дела, оказалось полностью ложным и пустым. Ибо если мы оглянемся на начало Пелопоннесской войны, когда они требовали от Афин всеобщей автономии для всей Греции, то увидим, что тогда это слово имело четкий и серьезный смысл: оно требовало освобождения городов, находившихся в зависимости от Афин, – свободы, которую Спарта могла бы обеспечить им сама по окончании войны, если бы не предпочла превратить её в куда более жестокую империю. Но в 387 г. (год Анталкидова мира) не осталось крупных подвластных территорий, которые нужно было освобождать, кроме союзников самой Спарты, к которым это вовсе не предназначалось. Так что на деле обещанное, как и реализованное, даже в самом благовидном пункте этого позорного договора, сводилось к тому, что «города должны были пользоваться автономией не для собственного блага и по своему усмотрению, а для удобства Лакедемона»; – выразительная фраза (использованная Периклом [24] в дебатах перед Пелопоннесской войной), которая стала лейтмотивом греческой истории в течение шестнадцати лет между Анталкидовым миром и битвой при Левктрах.
Я уже упоминал, что первые два применения провозглашенной автономии лакедемоняне использовали, чтобы вынудить коринфское правительство распустить своих аргосских союзников и заставить Фивы отказаться от древнего предводительства в Беотийском союзе. Последнее особенно было целью, которую они давно лелеяли; [25] и оба эти шага значительно усилили их влияние в Греции. Афины же, напуганные новой демонстрацией персидской силы и частично подкупленные возвращением трех своих островов, приняли мир, – тем самым лишившись фиванских и коринфских союзников и оказавшись не в состоянии противостоять спартанским планам. Но прежде чем мы перейдем к этим планам, стоит ненадолго обратиться к действиям персов. [p. 13]
Ещё до смерти Дария Нота (отца Артаксеркса и Кира) Египет восстал против персов под предводительством местного князя по имени Амиртей. Для греческих военачальников, сопровождавших Кира в его походе против брата, было хорошо известно, что это восстание сильно разозлило персов; так что Клеарх в переговорах после смерти Кира о примирении с Артаксерксом намекнул, что Десять тысяч могли бы помочь ему в завоевании Египта. [26] Однако опасность после смерти Кира угрожала не только этим грекам, но и различным персам и другим подданным, которые ему помогали; все они покорились и пытались задобрить Артаксеркса, кроме Тама, командовавшего флотом Кира у берегов Ионии и Киликии. Когда Тиссаферн прибыл на побережье с полномочиями, Тама охватила такая паника, что он бежал со своим флотом и сокровищами в Египет, ища защиты у царя Псамметиха, которому ранее оказывал ценные услуги. Однако этот предатель, получив в свои руки столь ценную добычу, забыл обо всем в своей жадности и убил Тама вместе со всеми его детьми. [27] Около 395 г. до н.э. мы видим, как египетский царь Неферит оказывает помощь спартанскому флоту против Артаксеркса. [28] Два года спустя (392–390 гг. до н.э.), в годы, последовавшие сразу после победы при Книде и похода Фарнабаза через Эгейское море в Пелопоннес, мы слышим, что этот сатрап вместе с Аброкомом и Титравстом предпринимал энергичные, но тщетные попытки вернуть Египет. [29] Отбив персов, египетский царь Акор в период между 390–380 гг. до н.э. [30] посылает помощь Эвагору на Кипре против того же врага. И несмотря на дальнейшие попытки Артаксеркса вернуть Египет, местные цари сохраняли независимость около шестидесяти лет, вплоть до правления его преемника Оха.
Но главное внимание персов сразу после Анталкидова мира привлек враг греческого происхождения – менее могущественный, но куда более выдающийся, чем любой из этих египтян: Эвагор, деспот Саламина на Кипре. Об этом правителе до нас дошла речь, полная самых восторженных и преувеличенных похвал, составленная после его смерти для сына и преемника Никокла (и, вероятно, оплаченная его деньгами) современником Исократом. Даже если сделать поправку на преувеличение и пристрастность, достоверные черты этого портрета достаточно интересны.
Эвагор принадлежал к саламинскому роду, или генсу, называемому Тевкриды, который возводил свою родословную к таким легендарным именам, как Тевкр, Теламон и Эак, а через них – к самому Зевсу. Считалось, что лучник Тевкр, вернувшись после Троянской войны на (афинский) Саламин, был изгнан суровым приказом отца Теламона и основал город с тем же именем на восточном побережье Кипра. [31] Как и в Сицилии, на Кипре греческий и финикийский элементы находились в тесном соседстве, хотя и в разных пропорциях. Из девяти или десяти отдельных городских общин, разделивших между собой всё побережье (причем меньшие города зависели от одного из них), семь считались эллинскими, два наиболее значительных – Саламин и Солы; три – финикийскими: Пафос, Амафунт и Китий. Вероятно, однако, в каждом из них было смешанное греко-финикийское население в разных пропорциях. [32] Каждым правил свой отдельный князь или деспот, греческий или финикийский. Греческие переселения (хотя их точная дата неизвестна) appear to have been later than the Phoenician. Во время Ионийского восстания (496 г. до н.э.) преобладал эллинский элемент, но с заметной примесью восточных обычаев. Однако после подавления восстания персами с помощью финикийцев [33] с противоположного материка эллинизм был сильно ослаблен. И хотя победы Кимона и афинян (470–450 гг. до н.э.) частично возродили его, Перикл в своем урегулировании с персами благоразумно отказался от притязаний как на Кипр, так и на Египет; [34] так что греческий элемент на Кипре, не получая внешней поддержки, становился всё более подчиненным финикийскому.
Примерно в это же время правящие князья Саламина, которые во время Ионийского восстания были греками из рода Тевкридов, [35] были свергнуты финикийским изгнанником, завоевавшим их доверие и захватившим власть. [36] Чтобы укрепить свою власть, узурпатор делал всё возможное, чтобы увеличить и усилить финикийское население, одновременно подавляя и унижая эллинское. Его преемник в Саламине продолжал ту же политику, и, похоже, ей следовали и в некоторых других городах; так что в течение большей части Пелопоннесской войны Кипр заметно деэллинизировался. Греки на острове подвергались жестоким притеснениям; новых греческих поселенцев и купцов отпугивали самым враждебным обращением, а также угрозами тех жестоких телесных увечий, которые обычно применялись на Востоке в качестве наказаний; в то время как греческие искусства, образование, музыка, поэзия и интеллектуальная жизнь быстро приходили в упадок. [37] [p. 17]
Несмотря на столь неблагоприятные обстоятельства, в которых прошла юность Тевкрида Эвагора на Саламине, он уже в раннем возрасте проявил столько энергии как умственной, так и физической, а также столько способности завоевывать популярность, что сразу стал заметной фигурой как среди греков, так и среди финикийцев. Именно в это время финикийский деспот был убит в результате заговора, организованного китийцем или тирийцем по имени Абдемон, который завладел его скипетром. [38] Узурпатор, не доверяя своему положению и стремясь устранить всех видных деятелей, способных нанести ему вред, попытался схватить Эвагора; но тот сумел бежать и перебрался в Солы и Киликию.
Хотя внешне он казался беспомощным изгнанником, он нашел способ нанести решающий удар, пока новая узурпация, запятнанная первыми актами насилия и грабежа, была окружена врагами, сомневающимися или нейтральными, не успев еще укрепить свою власть. Он переправился из Сол в Киликии с небольшой, но решительной группой из примерно пятидесяти сторонников, тайно проник через потерну в Саламине и ночью напал на Абдемона в его дворце. Несмотря на значительное численное превосходство охраны, эта операция была проведена с такой необычайной смелостью и расчетом, что Абдемон погиб, а Эвагор стал деспотом вместо него. [39]
Блеск этого подвига был достаточен, чтобы возвести Эвагора на престол без сопротивления среди населения, привыкшего к монархическому правлению, в то время как среди саламинских греков он стал еще более любим благодаря своему тевкридскому происхождению. [40] Его правление полностью оправдало возложенные на него ожидания. Он не только воздерживался от кровопролития, грабежей и насилия [стр. 18] ради удовлетворения личных амбиций – что само по себе было достаточно редким для греческого деспота, чтобы осветить его правление золотыми буквами, и тем более примечательным для Эвагора, поскольку он обладал восприимчивым греческим темпераментом, хотя его мощный ум всегда держал его под контролем. [41] Но он также тщательно расследовал преступления и строго наказывал за них, избегая при этом жестоких демонстраций, которыми восточные правители любили подчеркивать свою власть. [42] Его правление было одновременно популярным и примирительным как по отношению к народу, так и к отдельным личностям. Неутомимый в личном надзоре, он сам все проверял, разрабатывал свою политическую линию и следил за ее исполнением. [43] Он был первым во всех усилиях и опасностях. Обеспечивая безопасность, он постепенно удвоил богатство, торговлю, промышленность и военную мощь города, в то время как его собственная популярность и слава продолжали расти.
Прежде всего, его главным желанием было возродить эллинизм как в Саламине, так и на Кипре, который финикийские деспоты последних пятидесяти лет стремились уничтожить или исказить. Для помощи в этом деле он обратил свои взоры к Афинам, с которыми был связан как тевкрид узами родства и легендарных симпатий – и которые как раз переставали быть великой морской державой Эгейского моря. Хотя мы не можем точно установить дату начала правления Эвагора, [стр. 19] можно предположить, что это было около 411 или 410 г. до н. э. Вскоре после этого его посетил афинянин Андокид; [44] кроме того, к 405 г. до н.э., после битвы при Эгоспотамах, он уже был не просто устоявшимся, но могущественным правителем, осмелившимся приютить Конона.
Он приглашал в Саламин новых переселенцев из Аттики и других частей Греции, подобно тому, как правитель Сол Филокипр сделал это под покровительством Солона [45] за полтора века до него. Он прилагал особые усилия для возрождения и развития греческой литературы, искусства, образования, музыки и интеллектуальных течений. Эти меры оказались настолько успешными, что уже через несколько лет, без насилия и принуждения, облик Саламина изменился. Мягкость и общительность, мода и устремления эллинизма вновь стали преобладать, оказывая большое влияние на остальные города острова.
Если бы возвышение Эвагора произошло на несколько лет раньше, Афины, возможно, воспользовались бы этим, чтобы направить свои амбиции на восток, а не на запад – к Сицилии, что привело к катастрофе. Но поскольку он появился в тот момент, когда Афины с трудом вели даже оборонительную войну, он скорее воспользовался их слабостью, чем силой. В последние годы войны, когда Афинская империя частично распалась, а Эгейское море, вместо прежнего спокойствия, царившего под властью Афин пятьдесят лет, стало ареной борьбы между двумя враждующими флотами, многие афинские колонисты, владевшие имуществом на островах, Херсонесе или в других местах под афинской защитой, почувствовали себя незащищенными и были вынуждены искать новые пристанища. После поражения при Эгоспотамах (405 г. до н.э.) все оставшиеся колонисты были изгнаны и вынуждены искать убежище либо в Афинах (в тот момент наименее привлекательном месте Греции), либо в других местах. Для таких людей, как и для афинского адмирала Конона с его небольшим остатком триер, спасшихся после поражения, приглашение Эвагора стало единственным доступным убежищем. Таким образом, мы узнаем, что множество переселенцев лучшего качества из разных частей Греции устремились в Саламин. [46] Многие афинские женщины в годы лишений, предшествовавших и последовавших за битвой при Эгоспотамах, охотно эмигрировали и находили мужей в этом городе; [47] в то время как по всей территории Лакедемонской империи многочисленные жертвы гармостов и декархий не имели другого столь безопасного и привлекательного убежища.
В первые годы своего правления Эвагор, несомненно, исправно платил дань и не предпринимал шагов, которые могли бы оскорбить персидского царя. Но по мере роста его власти росла и его амбициозность. Около 390 г. до н.э. он вступил в борьбу не только с персидским царем, но и с Амафунтом и Китием на своем острове, а также с великими финикийскими городами на материке. Точные обстоятельства и время начала этой войны неизвестны. Ко времени битвы при Книде (394 г. до н.э.) Эвагор не только платил дань, но и сыграл ключевую роль в передаче персидского флота Конону для действий против лакедемонян, сам участвуя в походе. [48] По словам Исократа, именно исключительная энергия, способности и мощь, проявленные Эвагором на службе у самого Артаксеркса, вызвали зависть и тревогу царя. Без всякого повода, в момент, когда он извлекал выгоду из усердной службы Эвагора, Великий Царь вероломно начал интриговать против него, вынудив его вступить в войну ради самозащиты. [49]
Эвагор принял вызов, несмотря на неравенство сил, с такой храбростью и эффективностью, что сначала добился значительных успехов. При поддержке своего сына Пнитагора он не только одержал верх над Амафунтом, Китием и Солами, которые под властью князя Агириса поддерживали Артаксеркса, но и снарядил большой флот, атаковал финикийцев на материке с такой силой, что даже захватил великий город Тир, а также убедил некоторые киликийские города выступить против персов. [50] Он получил значительную помощь от Акориса, независимого царя Египта, а также от Хабрия и афинских сил. [51]
Война против Эвагора, начавшаяся около 390 г. до н.э., продолжалась более десяти лет, потребовав от персов огромных усилий и расходов. Дважды Афины отправляли ему эскадры в знак благодарности за долгую защиту Конона и его энергичные действия перед и во время битвы при Книде, хотя это рисковало сделать персов их врагами.
Сатран Тирбаз понимал, что, пока у него идет война в Греции, он не может сосредоточить силы против саламинского князя и египтян. Отчасти этим объясняются чрезвычайные усилия персов навязать вместе со Спартой Анталкидов мир и собрать в Ионии флот, способный запугать Афины и Фивы. Одним из условий этого мира был отказ от Эвагора; [52] весь остров Кипр признавался владением персидского царя.
Лишившись поддержки Афин и располагая лишь наемниками, которых мог оплачивать, Эвагор все же получал помощь от Акориса Египетского и даже от Гекатомна, князя Карии, тайно приславшего ему деньги. [53] Однако после заключения Анталкидова мира персидские сатрапы полностью подчинили греческие города на азиатском побережье и смогли перебросить в Киликию и Кипр не только весь ионийский флот, но и дополнительные контингенты из самих этих греческих городов. Таким образом, значительная часть персидских сил, действовавших против Кипра, состояла из греков, но, по-видимому, действовавших по принуждению, плохо оплачиваемых и используемых, [54] а потому не слишком эффективных.