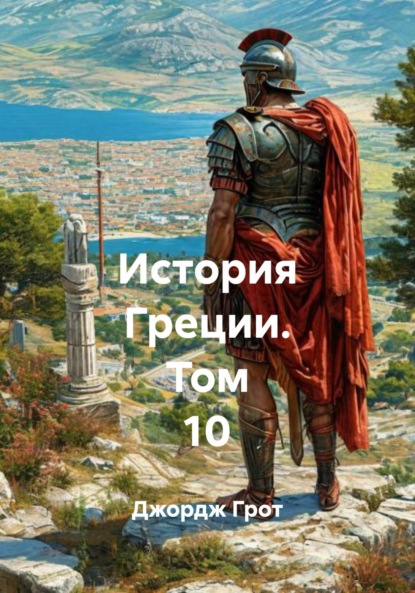- -
- 100%
- +
Сатрапы Тирибаз и Оронт командовали сухопутными силами, значительная часть которых была переброшена на Кипр; адмирал Гаос возглавлял флот, стоявший у Кития на юге острова. Именно здесь Эвагор, ранее одержавший победу на суше, атаковал их. Невероятными усилиями он собрал флот из двухсот триер, почти равный по численности вражескому, но после ожесточённого [стр. 23] сражения, в котором сначала казалось, что он одержит верх, потерпел полное поражение на море, лишившее его возможности удерживать контроль над морскими путями и позволившее персам блокировать Саламин как с моря, так и с суши. [55]
Оказавшись запертым в своём единственном городе, Эвагор, однако, продолжал обороняться с непоколебимой решимостью, всё ещё получая поддержку от Акориса из Египта; в то же время Тир и несколько городов в Киликии также оставались в состоянии мятежа против Артаксеркса. Это отвлекало силы персов, и война завершилась лишь через десять лет после её начала. [56] Потери персов составили (если верить Исократу) [57] пятнадцать тысяч талантов деньгами, а также значительные людские потери, что вынудило Тирибаза согласиться на мирные предложения Эвагора. Условия предусматривали сохранение за Эвагором Саламина при условии выплаты установленной дани, «как раб господину». Эти последние слова сатрап потребовал дословно включить в договор, но Эвагор категорически отказался, настаивая на формулировке, что дань платится «один [стр. 24] царь другому». Не желая уступать в этом вопросе чести, он даже прервал переговоры и решил защищаться до конца. Его спасла ссора, вспыхнувшая между двумя командующими персидской армии. Оронт, обвинив Тирибаза в подготовке измены и мятежа против царя в союзе со Спартой, добился его ареста и отправки в Сузы, став единоличным командующим. Но поскольку осаждающая армия уже была измотана упорным сопротивлением Саламина, он согласился на капитуляцию, ограничившись требованием дани и заменив оскорбительную формулировку Тирибаза на вариант, предложенный противной стороной. [58]
Так Эвагор избавился от осаждавших его врагов и до конца жизни оставался данником персов, сохранив власть над Саламином. Он больше не участвовал в войнах, а его популярность среди саламинцев не уменьшилась, несмотря на все перенесённые ими тяготы. [59] Его благоразумие смягчило затаённую враждебность Великого царя, который охотно нашёл бы повод нарушить договор. У Эвагора было много детей, живших в согласии как с ним, так и между собой. Исократ особо отмечает этот факт, резко контрастировавший с обычными для греческих тиранов семейными отношениями, омрачёнными завистью, враждой и кровавыми распрями. [60] Однако он умалчивает об обстоятельствах гибели Эвагора, которые плохо сочетались с тем «сверхчеловеческим везением и благосклонностью богов», о которых говорилось в его панегирике. [61]
Вскоре после заключения мира некий саламинец по имени Никокреон организовал заговор против жизни и власти Эвагора, но был случайно раскрыт перед самым исполнением замысла и вынужден бежать. Он оставил в своём гареме юную дочь под присмотром евнуха (грека из Элиды) по имени Фрасидей, который, движимый местью за своего господина, рассказал о красоте девушки и Эвагору, и Пнитагору – самому видному из его сыновей, участнику героической обороны Саламина. Оба, не зная друг о друге, тайно договорились с евнухом о свидании в её покоях, где оба были убиты его рукой. [62]
Так погиб грек выдающейся силы и ума, чуждый пороков, обычных для греческих тиранов, и резко [стр. 26] отличавшийся в этом отношении от своего современника Дионисия, чья воинственность была запятнана преступлениями и насилием. После него в Саламине правил его сын Никокл, проявлявший большую щедрость к афинскому ритору Исократу, который хвалил его как миролюбивого и просвещённого правителя, увлечённого греческой культурой, философией и, главное, следующившего примеру отца в справедливости и уважении к чужой собственности, что способствовало процветанию города. [63]
Теперь, закончив рассказ об Эвагоре – интересном не только благодаря его личным качествам, но и как примеру борьбы эллинизма с финикийским влиянием на Кипре, – вернёмся к последствиям Анталкидова мира в Центральной Греции. Впервые после битвы при Микале в 479 г. до н. э. персы стали полными хозяевами греков малоазийского побережья. Сатрапы немедленно укрепили свою власть: в подозрительных городах возводились цитадели и размещались гарнизоны, а некоторые города были и вовсе разрушены. [64] Таким образом, эти города, уже перешедшие от мягкого афинского владычества к жёсткому правлению спартанских гармостов и местных декархий, теперь оказались под ещё более тяжёлым игом, лишённым даже эллинской солидарности.
Персидские наместники и их наёмники были, вероятно, ещё более алчными и бесконтрольными, чем спартанские гармосты. Кроме того, персидская знать требовала красивых мальчиков для евнухов и прекрасных женщин для гаремов. [65] То, что у них забирали, нельзя было ни вернуть, ни компенсировать. Гречанки, возможно, не всегда превосходили красотой азиаток, но отличались умом и живостью, как, например, фокейская спутница Кира, захваченная при Кунаксе. К тому же, попав под власть восточных правителей, греки столкнулись с местными обычаями, допускавшими пытки и жестокость, без различия между свободными и рабами. [66]
Спарта, предав малоазийских греков персам по условиям Анталкидова мира, не только ухудшила их положение, но и сделала их орудием в руках Великого царя против других эллинов – Эвагора на Кипре, а также против островов у побережья Азии: Хиоса, Самоса, Родоса и др. [67] Эти острова теперь оказались под той же угрозой, от которой их когда-то спас Делосский союз и Афинская империя. Всё, что создали гений, энергия и патриотизм Афин, было разрушено, а Спарта, виновная в этом, лишила безопасности даже островитян. [стр. 28]
Однако вскоре стало ясно, что Спарта сама выиграла от этой сделки, укрепив свою власть в Греции. Коринф, где к власти вернулись проспартанские изгнанники, оказался под её контролем, обеспечивая свободу действий против Фив – главного врага. Агесилай, движимый личной ненавистью после оскорбления в Авлии и битвы при Коронее, настаивал на жёсткой политике. Более осторожные спартанцы, как Анталкид, предупреждали его [68], что такая тактика лишь закалит фиванцев, что и подтвердилось позже при Левктрах.
Во время подписания Анталкидова мира фиванцы сначала отказались признать автономию остальных беотийских городов, но, испугавшись угрозы войны, уступили. [69] Это позволило Спарте навязать в Беотии олигархические режимы, враждебные Фивам и зависимые от спартанских гарнизонов. [70] Хотя большинство беотийских городов поддерживало Фивы, Орхомен и Феспии, напротив, были на стороне Спарты [71] и стали её опорными пунктами в регионе. [72]
Присутствие таких гарнизонов, по одному с каждой стороны Фив, – упразднение беотархов вместе с ликвидацией всех символов и процедур Беотийского союза, – а также установление олигархий, преданных Спарте, в остальных городах, – несомненно, нанесло глубокую рану фиванской гордости. Но была и другая, ещё более болезненная рана, которую лакедемоняне незамедлительно нанесли, – восстановление Платей.
С этим городом связано чувство грустного интереса как с местом, озарённым славой Греции, – и с его храбрым и верным населением, ставшим жертвой неблагоприятного расположения и малочисленности. Особенно неприятно наблюдать за капризными поворотами политики, диктовавшей поведение Спарты по отношению к ним. За сто двадцать лет до этого платейцы обратились к Спарте с просьбой о защите от Фив. Спартанский царь Клеомен тогда отказался, сославшись на удалённость, и посоветовал им заключить союз с Афинами. [73] Этот совет, хотя и продиктованный главным образом желанием посеять раздор между Афинами и Фивами, был исполнен; и союз, полностью оторвавший Платеи от Беотийского объединения, оказался для неё выгодным и почётным вплоть до начала Пелопоннесской войны.
В то время политика Спарты заключалась в поддержке и укреплении гегемонии Фив над беотийскими городами; именно благодаря спартанскому вмешательству власть Фив была восстановлена [стр. 31] после того тяжёлого унижения, которое они пережили как предатели Эллады, усердно служившие Мардонию. [74] Афины же, напротив, тогда стремились разрушить Беотийский союз и привлечь различные города в качестве своих союзников; в этом стремлении, хотя, несомненно, продиктованном их собственной амбициозностью, они в тот период (460–445 гг. до н. э.) были полностью оправданы с общеэллинской точки зрения, учитывая, что Фивы, как их прежний лидер, совсем недавно вовлекли их всех в службу Ксерксу и могли повторить это в случае нового персидского вторжения.
Хотя Афины на время добились успеха, они были изгнаны из Беотии после поражения при Коронее; и к началу Пелопоннесской войны весь Беотийский союз (кроме Платей) объединился под началом Фив в острой вражде против них. Первый удар войны, даже до её официального объявления, был нанесён Фивами в их неудачной ночной попытке захватить Платеи. На третий год войны царь Архидам во главе всего спартанского войска осадил этот город; после героической обороны и длительной блокады он наконец сдался под страшным гнётом голода, но не раньше, чем половина его храбрых защитников прорвалась через осадную стену и бежала в Афины, куда ещё до осады были безопасно переправлены все платейские старики, женщины и дети.
Жестоким актом, который остаётся одним из величайших злодеяний греческой войны, лакедемоняне казнили всех пленных платейцев – двести человек, попавших в их руки; город Платеи был разрушен, а его территория присоединена к Фивам и с тех пор обрабатывалась в их интересах. [75] Уцелевшие платейцы были приняты афинянами с добротой и гостеприимством. Им было предоставлено ограниченное право гражданства в Афинах, а когда в 420 г. до н. э. был отвоёван Скион, этот город (оставшийся без жителей после казни его граждан) был передан платейцам для проживания. [76] Вынужденные покинуть Скион, они в конце Пелопоннесской войны [77] вернулись в [стр. 32] Афины, где их остатки проживали ко времени Анталкидова мира; и они даже не предполагали, что те, кто разрушил их город и убил их отцов сорок лет назад, теперь повернутся и восстановят его. [78]
Это восстановление, какими бы ни были формальные основания, на которые ссылалась Спарта, на самом деле не имело целью ни выполнение условий Анталкидова мира, гарантировавшего автономию лишь существующих городов, ни исправление прежней несправедливости, поскольку разрушение Платей было сознательным деянием самих спартанцев и царя Архидама, отца Агесилая, – а лишь служило текущим политическим интересам Спарты. И для этой цели оно было искусно задумано.
Оно ослабляло Фивы не только отторжением части их территории и собственности, которой они владели около сорока лет, но и созданием на ней постоянного оплота их заклятых врагов, поддерживаемого спартанским гарнизоном. Оно предоставляло Спарте ещё одну базу для гарнизона в Беотии с полного согласия новых жителей. И, что важнее всего, оно создавало почву для раздора между Афинами и Фивами, мешая их будущему сплочённому сопротивлению Спарте. Поскольку симпатии платейцев к Афинам были столь же древними и искренними, как и их ненависть к Фивам, можно предположить, что восстановление города поначалу было благосклонно встречено афинянами – по крайней мере, до тех пор, пока они не увидели, как Спарта использует его и какую позицию она заняла в отношении всей Греции.
Многие платейцы за время жизни в Афинах вступили в браки с афинянками, [79] которые теперь, вероятно, сопровождали своих мужей в восстановленный городок к северу от Киферона, у южного берега реки Асоп.
Если бы платейцы получили настоящую и почётную автономию, подобную той, которой они пользовались в союзе с Афинами до Пелопоннесской войны, это событие вызвало бы искреннее сочувствие. Но последующие события покажут – и их собственные заявления особо подчёркивают, – что они были лишь зависимым придатком Спарты и аванпостом её действий против [стр. 33] Фив. [80] Они стали частью великого переворота, который спартанцы теперь совершили в Беотии, низведя Фивы с положения главы союза до уровня изолированного автономного города, в то время как остальные беотийские города, прежде бывшие членами союза, были возвышены до такой же автономии – или, точнее (заменив спартанские декларации правдой), [81] стали присяжными и зависимыми союзниками Спарты, управляемыми олигархическими кликами, преданными её интересам и опиравшимися на её поддержку.
То, что фиванцы смирились с этим переворотом и, более того, с видом Платей как независимого соседа с территорией, отнятой у них, – доказывает, насколько они ощущали свою слабость и как непреодолимо было в тот момент влияние их великого врага, использовавшего популярный лозунг всеобщей автономии Анталкидова мира для собственных амбиций.
Хотя фиванцы вынуждены были подчиниться, они ждали перемены судьбы, которая позволила бы им восстановить Беотийский союз; их враждебность к Спарте от этого лишь становилась острее, хоть и подавлялась. Спарта, со своей стороны, зорко следила, чтобы Беотия не объединилась вновь; [82] в этом она на время полностью преуспела и даже сверх ожиданий сумела овладеть самими Фивами [83] благодаря предателям внутри города – как будет показано далее.
В этих мерах, касающихся Беотии, мы видим твёрдую руку и фивофобские настроения Агесилая. В то время он был главным руководителем внешней политики Спарты, хотя ему противостоял более справедливый и умеренный коллега, царь Агесиполь, [84] а также часть влиятельных спартанцев, упрекавших Агесилая за стремление править Грецией через подчинённых местных деспотов или олигархии в различных городах [85] и утверждавших, что автономия, обещанная Анталкидовым миром, должна развиваться свободно, без принудительного вмешательства Спарты. [86] [стр. 35]
Далекие от того, чтобы желать реализации условий мира, которые сами же и навязали, лакедемоняне, едва освободившись от врагов в Беотии и Коринфе, воспользовались моментом, чтобы ужесточить свою власть над союзниками сверх прежних пределов.
Рассмотрев [87] поведение каждого во время войны, они решили сделать пример из города Мантинеи. Мантинейцам вменялись в вину не столько явно враждебные действия, сколько двусмысленная лояльность. Их обвиняли в нерадивом исполнении военных обязательств, иногда даже до полного отказа выставлять свой контингент под предлогом религиозного перемирия; в поставках зерна враждебным аргосцам во время войны; а также в явном проявлении недовольства по отношению к Спарте – досаде при каждом её успехе и удовлетворении, когда ей случалось терпеть неудачу. [88]
Спартанские эфоры отправили в Мантинею посла, осудившего всё это прошлое поведение и категорически потребовавшего снести городские стены как единственную гарантию будущего раскаяния и исправления. Когда требование было отклонено, они направили войско, созвав союзные контингенты для принудительного исполнения приговора. [стр. 36] Командование поручили царю Агесиполу, поскольку Агесилай отказался, ссылаясь на то, что мантинейцы оказали значительную помощь его отцу Архидаму во время опасной Мессенской войны, угрожавшей Спарте в начале его правления. [89]
Сначала Агесипол попытался запугать мантинейцев, опустошая их земли, затем приступил к осаде, окружив город рвом; половина его солдат стояла на страже, а остальные работали лопатами. После завершения рва он начал возводить стену окружения. Однако, узнав, что предыдущий урожай был настолько хорош, что в городе оставался большой запас провизии, и процесс изнурения голодом затянется, что было утомительно как для Спарты, так и для её союзников, – он попробовал более быстрый способ достижения цели. Поскольку через середину города протекала река Офис, довольно широкая для греческого потока, он перекрыл её выход на нижней стороне, [90] вызвав тем самым затопление внутренней части [стр. 37] города и угрозу устойчивости стен, которые, судя по всему, были невысокими и сложенными из сырцового кирпича.
Не получив помощи от Афин [91] и не сумев подкрепить свои шаткие башни, мантинейцы были вынуждены просить о капитуляции. Однако Агесипол теперь отказался удовлетворить просьбу, кроме как на условиях, что не только укрепления города, но и сам город в значительной части будут разрушены, а жители вновь распределены по пяти деревням, из которых много лет назад и сложился город Мантинея. На это мантинейцам пришлось согласиться, и капитуляция была утверждена.
Хотя в условиях капитуляции ничего не говорилось о лидерах мантинейской демократии, последние, сознавая, что их ненавидят как собственная олигархическая оппозиция, так и лакедемоняне, были уверены, что их казнят. Так бы и случилось, если бы не Павсаний (бывший царь Спарты, находившийся в изгнании в Тегее), который всегда благоволил к ним и в качестве личной просьбы добился у своего сына Агесипола сохранения жизни шестидесяти наиболее ненавистным лицам при условии их изгнания. Агесипол с трудом исполнил желание отца. Лакедемонские воины стояли по обе стороны ворот, через которые выходили осуждённые, и Ксенофонт отмечает это как яркий пример спартанской дисциплины, что они удержались от применения копий, когда безоружные враги были в их власти, – особенно учитывая, что олигархически настроенные мантинейцы проявляли крайнюю кровожадность и их было очень трудно сдерживать. [92] Как прежде в Пирее, так и [стр. 38] теперь в Мантинее – благородный, но несчастный царь Павсаний выступает в роли посредника, смягчая жестокость политических распрей.
Город Мантинея был расформирован, а его жители вновь распределены по пяти деревням. Четыре пятых населения разобрали свои дома в городе и отстроили их в деревнях ближе к своим владениям. Оставшаяся пятая часть продолжила жить в Мантинее как в деревне. Каждая деревня управлялась олигархией и оставалась неукреплённой. Хотя поначалу, как отмечает Ксенофонт, перемена казалась тягостной и ненавистной, вскоре, когда люди оказались ближе к своим землям, а главное – избавились от докучливых демагогов, новое положение стало популярнее прежнего. Лакедемоняне были ещё более довольны: вместо одного города Мантинеи в списке их союзников теперь значились пять отдельных аркадских деревень. Каждой был назначен отдельный ксенаг (спартанский офицер, командовавший союзным контингентом), и с тех пор военная служба исполнялась с величайшей регулярностью. [93]
Таков был разгром древнего города Мантинеи – одно из самых отвратительных проявлений спартанского деспотизма. Его истинная сущность скрыта предвзятостью историка, который описывает это с уверенностью, что после трудностей переезда население почувствовало себя лучше. Такое утверждение можно принять лишь на том основании, что, будучи пленниками по греческим законам войны, они, возможно, были благодарны за избавление от более страшных последствий – смерти или рабства – ценой утраты гражданской общины. Их истинное отношение к переменам видно по их последующим действиям после битвы при Левктрах: как только страх перед Спартой исчез, они единодушно устремились воссоздать и укрепить свой разрушенный город. [94] Иначе и быть не могло, ведь привязанность к гражданской общине была сильнейшим политическим инстинктом греческого сознания. Гражданин города противился – порой крайне неразумно – компромиссу в автономном существовании своей общины ради участия в более крупных политических объединениях, сколь бы справедливыми они ни были и сколько бы ни сулили роста эллинского достоинства. Но ещё яростнее он отвергал саму мысль о раздроблении города на отдельные деревни и обмене статуса гражданина на положение деревенского жителя, что в глазах греков, включая спартанцев, означало социальное унижение. [95]
На самом деле приговор, исполненный спартанцами в отношении Мантинеи, был одним из самых позорных и тяжких, какие только могли быть наложены на свободных греков. Вся отличительная слава и превосходство эллинизма – все проявления интеллекта и искусства, вся литература и философия, всё, что составляло утончённую и разумную общественность, – зависели от городской жизни народа. А влияние Спарты в период её империи было особенно пагубным и регрессивным, поскольку стремилось не только раздробить федерации, такие как Беотия, на изолированные города, но и разложить подозрительные города, подобные Мантинее, на деревни – всё ради того, чтобы сделать их исключительно зависимыми от неё самой. Афины в период своего владычества не оказывали такого разъединяющего влияния, не говоря уже о Фивах, которые позже активно способствовали основанию новых великих городов – Мегалополя и Мессены. Имперские устремления Спарты хуже, чем у Афин или Фив, поскольку включают меньше объединяющих или общеэллинских симпатий и в наибольшей степени опираются на подчинённые партии в каждом подконтрольном городе.
В самой истории с Мантинеей очевидно, что нападение Спарты было если не спровоцировано, то по крайней мере поддержано олигархической партией города, стремившейся захватить власть и уничтожить политических противников. В первом они полностью преуспели, и их власть в пяти деревнях, вероятно, была прочнее, чем в целом городе. Во втором их остановило лишь случайное вмешательство изгнанника Павсания – случайность, которая одна уберегла спартанское имя от дополнительного позора политической резни, помимо уже навлечённого позора самого акта: уничтожения древнего автономного города, не совершившего никакой явной вражды и отличавшегося умеренностью в демократических проявлениях, что даже снискало ему одобрение у критиков, в целом не расположенных к демократии. [96]
Тридцать лет назад, когда Мантинея завоевала соседние аркадские земли и воевала со Спартой за их сохранение, победившие спартанцы ограничились возвращением города к исходным границам. [97] Теперь же они не удовлетворились ничем, кроме раздела города на неукреплённые деревни, хотя перед этим не было даже настоящей войны. Так сильно за это время возросли и мощь Спарты, и её деспотические устремления.
Общий тон Исократа, Ксенофонта и Диодора [98] указывает, что суровость в отношении Мантинеи была лишь самым жёстким звеном в цепи подобных мер, применённых лакедемонянами ко всей конфедерации и направленных против тех её членов, которые вызывали недовольство или подозрение. В течение десяти лет после капитуляции Афин они властвовали над греческим миром и на суше, и на море, обладая мощью, которой прежде не имело ни одно греческое государство, – пока битва при Книде и союз Афин, Фив, Аргоса и Коринфа при поддержке Персии не разрушили их морскую империю и не поставили под угрозу сухопутную. Наконец, Анталкидов мир, привлёкший Персию на их сторону (ценой свободы малоазийских греков), позволил им разорвать враждебную коалицию.
Объявленная автономия, толкователями которой они себя назначили, означала лишь отделение беотийских городов от Фив [99] и Коринфа от Аргоса, но никоим образом не касалась отношений между Спартой и её союзниками. Освободив себе руки, лакедемоняне принялись поднимать своё влияние на суше до уровня, существовавшего до битвы при Книде, и даже пытались вернуть как можно больше от своей морской империи. Их систематической политикой стало восстановление власти, подобной власти лисандровых гармостов и декархий, и создание в каждом городе, где за время войны правительство стало более либеральным, местной олигархии из самых преданных сторонников. [стр. 42]
Те изгнанники, которые навлекли на себя осуждение своих сограждан за угодничество перед Спартой, теперь сочли момент удобным для того, чтобы просить спартанского вмешательства с целью возвращения на родину. Именно таким образом группа изгнанных политических лидеров из Флиунта – чья главная заслуга заключалась в том, что город под их управлением ревностно служил Спарте, но теперь, в руках их противников, стал равнодушным или даже враждебным – добилась от эфоров послания, вежливого по форме, но властного по содержанию, адресованного флиунтийцам с требованием восстановить изгнанников как друзей Спарты, изгнанных без справедливой причины. [100]
В то время как спартанская мощь в течение нескольких лет после Анталкидова мира явно усиливалась на суше, предпринимались также попытки восстановить её влияние на море. Некоторые из Кикладских и других небольших островов вновь были обложены данью. Однако в этой сфере Афины стали её соперником. После мира и восстановления контроля над Лемносом, Имбросом и Скиросом, а также укрепления Пирея и Длинных стен, афинская торговля и морская мощь начали возрождаться, хотя медленно и скромно. Подобно военному флоту Англии в сравнении с Францией, военный флот Афин опирался на значительный торговый флот, которого в Лаконии практически не существовало. У Спарты не было моряков, кроме подневольных илотов или наёмных иностранцев; [101] тогда как торговля Пирея требовала и поддерживала многочисленное население такого рода. Гавань Пирея была удобна с точки зрения инфраструктуры и изобиловала ремесленниками, тогда как в Лаконии ремесленников было мало, и она была печально известна отсутствием хороших гаваней. [102] Таким образом, в этом морском соперничестве Афины, хотя и были лишь тенью своего прежнего величия, изначально имели преимущество перед Спартой и, несмотря на превосходство последней на суше, могли конкурировать с ней в привлечении зависимых островов Эгейского моря. Для этих островов, не имевших собственного флота и (как и сами Афины) зависевших от регулярных поставок импортного зерна, было важно [стр. 43] получить как доступ к Пирею, так и защиту от афинских триер против множества пиратов, появившихся после Анталкидова мира, когда не было доминирующей морской державы. Кроме того, рынок Пирея часто снабжался иностранным зерном из Крыма благодаря предпочтению, которое оказывали афинским купцам правители Боспора, в то время как суда из других мест не могли получить груз. [103] Умеренная дань, выплачиваемая Афинам, обеспечивала зависимому острову больше преимуществ, чем если бы она выплачивалась Спарте, – при этом гарантируя как минимум равную защиту. Вероятно, влияние Афин на островитян усиливалось ещё и тем, что они управляли празднествами и распоряжались средствами священного храма на Делосе. Надписи свидетельствуют, что из храмовой казны выдавались крупные суммы под проценты не только отдельным островитянам, но и целым городам – Наксосу, Андросу, Теносу, Сифносу, Серифосу. Амфиктиония, распределявшая эти займы (или, по крайней мере, её председательствующие члены), состояла из афинян, ежегодно назначаемых в Афинах. [104] Более того, островитяне оказывали религиозные почести и участвовали в Делосских празднествах, что втягивало их в орбиту центрального афинского влияния, которое при благоприятных обстоятельствах могло усиливаться и даже приобретать политическое значение.