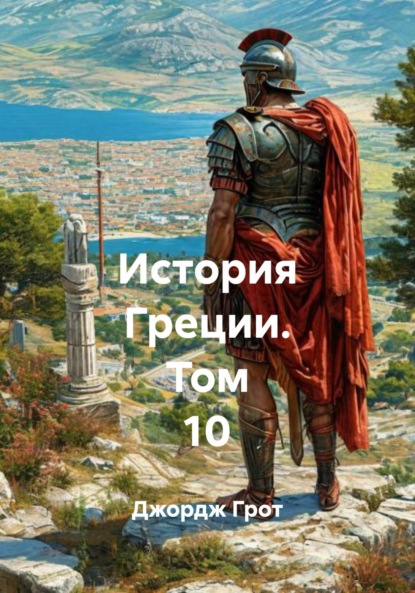- -
- 100%
- +
Благодаря таким факторам Афины постепенно создавали второй морской союз, который, как мы увидим, вскоре приобретёт значительный вес, хотя и не сравнимый с великолепием их прежней империи. Так, в 380 г. до н. э., когда Исократ опубликовал свою «Панегирическую речь» (спустя семь лет после Анталкидова мира), хотя общая мощь Афин всё ещё уступала подавляющему влиянию Спарты, [105] их флот уже [стр. 44] достиг такого прогресса, что он провозглашает за ними право возглавить морское командование в том крестовом походе, который он горячо призывает начать – объединённых Афин и Спарты во главе всей Греции против азиатских варваров. [106]
Кажется, что через несколько лет после Анталкидова мира Спарта несколько устыдилась того, что сдала малоазийских греков Персии, и царь Агесиполид вместе с другими влиятельными спартанцами поддержал идею нового греческого похода в Азию, в ответ на предложения некоторых недовольных подданных Артаксеркса. [107] Вероятно, именно на подобный проект, широко обсуждавшийся, но так и не реализованный, опирался Исократ в своей «Панегирической речи», написанной в возвышенном стиле патриотического красноречия (380 г. до н. э.), чтобы вдохновить и Спарту, и Афины на это дело, призывая их как совместных лидеров Греции отложить внутренние раздоры ради великого общегреческого выступления против общего врага за пределами Эллады. Но какие бы планы ни строили спартанские лидеры, около 382 г. до н. э. их внимание отвлекли события в более отдалённом регионе греческого мира, которые привели к важным последствиям.
С 414 г. до н. э. (когда афиняне были заняты осадой Сиракуз) мы ничего не слышали ни о македонских царях, ни о греческих городах Халкидики на фракийском полуострове, примыкающем к Македонии. До того года Афины ещё сохраняли часть своей морской империи в этих регионах. Платейцы всё ещё владели Скионой (на перешейке Паллены), которую Афины им передали, а афинский адмирал Эветион, поддержанный наёмными фракийцами и даже македонским царём Пердиккой, предпринял безуспешную осаду, чтобы вернуть Амфиполь на Стримоне. [108] Но катастрофа при Сиракузах лишила Афины возможности поддерживать такие отдалённые интересы, и они были потеряны вместе с остатками империи – возможно, даже раньше, хотя точных сведений у нас нет. В то же время в последние годы Пелопоннесской войны Македонское царство значительно усилилось – отчасти, можно предположить, из-за беспомощности Афин, но в ещё большей степени благодаря способностям и энергии Архелая, сына и преемника Пердикки.
Порядок престолонаследия среди македонских царей, похоже, не был чётко установлен, что приводило к спорам и кровопролитию после смерти многих из них. Более того, существовали отдельные племена македонцев, которые, хотя и входили (фактически или номинально) во владения Теменидов, тем не менее находились под непосредственным управлением собственных, но подчинённых князей. Правление Пердикки было омрачено подобными конфликтами. Сначала он отнял корону у своего брата Алкета, [109] который, насколько можно судить, имел [стр. 46] больше прав на неё; затем он изгнал своего младшего брата Филиппа из его удела. Одной из целей фракийского князя Ситалка во время его похода, предпринятого совместно с Афинами на втором году Пелопоннесской войны, было восстановление Аминты, сына Филиппа. [110] После смерти Пердикки (около 413 г. до н. э.) его старший (или единственный законный) сын был семилетним ребёнком, но его внебрачный сын [111] Архелай был уже взрослым и отличался беспринципными амбициями. Низложенный Алкет был ещё жив, и теперь у него были немалые шансы вернуть трон; Архелай пригласил его и его сына под предлогом, что сам поможет им восстановиться, а затем убил их обоих во время пира, воспользовавшись их опьянением. Затем он избавился от своего малолетнего законного брата, задушив его в колодце, и таким путём стал царём. Однако его правление было настолько энергичным и умелым, что Македония достигла военной мощи, которой не обладал ни один из его предшественников. Численность войск, военных запасов и укреплённых пунктов значительно возросла; он также проложил прямые дороги, соединявшие различные части его владений – в то время это, кажется, было новшеством повсюду. [112] Помимо такой улучшенной организации (которую, к сожалению, мы не можем детально изучить), Архелай учредил великолепные периодические Олимпийские игры в честь Зевса Олимпийского и Муз [113] и поддерживал связи с афинскими поэтами и философами. Он уговорил трагиков Еврипида и Агафона, а также эпического поэта Херила посетить Македонию, где Еврипид, в частности, пользовался особым расположением и щедростью царя, [114] оставаясь [стр. 47] там до своей смерти в 406 или 405 г. до н. э. Архелай также приглашал Сократа, который отказался, – и, по-видимому, благоволил Платону. [115] Он погиб в том же году, что и Сократ (399 г. до н. э.), насильственной смертью: во время охоты его убили два фессалийских юноши, Кратея и Гелланорат, а также македонец по имени Декамних. Первые двое были юношами, к которым Архелай был сильно привязан, но оскорбил их достоинство грубым обращением и невыполнением обещаний; третий же был македонцем, который за непристойное замечание о дурном дыхании Еврипида был по приказу Архелая передан поэту для наказания плетьми. Еврипид действительно велел его высечь, но лишь шесть лет спустя после смерти поэта Декамних, не забывший и не простивший обиды, получил возможность отомстить, спровоцировав и помогая убийцам Архелая. [116]
Эти инциденты, изложенные со слов Аристотеля и касающиеся как македонского царя Архелая, так и афинского гражданина и поэта Еврипида, иллюстрируют политический контраст между Македонией и Афинами.
Правление первой целиком личностное – зависит от страстей, вкусов, желаний и способностей царя. Честолюбие Архелая ведет как к его преступлениям ради захвата трона, так и к последующему улучшению организации военных сил государства; его восхищение афинскими поэтами и философами заставляет его горячо сочувствовать Еврипиду и обеспечивать последнему личное удовлетворение за оскорбительное замечание; его желания, смешивающие вседозволенность с оскорблением, в конце концов навлекают на него опасных личных врагов. «Государство – это я» – явно прослеживается во всей череде событий; личность монарха является определяющим фактором.
В Афинах же такого фактора не существует. С одной стороны, там нет простого способа применить влияние энергичного лидера для улучшения военной организации – что Афины с горечью осознали, когда позже подверглись нападению Филиппа, преемника Архелая (спустя некоторое время) и во многом его подобия. Но, с другой стороны, ни личные вкусы, ни желания какого-либо отдельного афинянина не играют активной роли в ходе государственных дел, которые определяются установленным законом и выраженными настроениями гражданского коллектива.
Какой бы грубой ни была нанесенная Еврипиду обида в Афинах, судьи никогда не приговорили бы обидчика к передаче ему для порки. Они назначили бы наказание, соответствующее, по их мнению, тяжести проступка и существующему закону. Политические меры или судебные приговоры в Афинах могли быть разумными или ошибочными, но в любом случае они диктовались уважением к известному закону и общепринятым представлениям о государственных интересах, достоинстве и обязательствах, без открытого вмешательства чьей-либо личности.
Для Еврипида, который всю жизнь был мишенью для Аристофана и других комедиографов и вынужден был слушать в переполненном театре насмешки куда более едкие, чем приписываемые Декамниху, контраст, должно быть, был поразительным: обидчик передан ему, а плеть вручена в его распоряжение по приказу нового покровителя. И это не делает ему чести, что он воспользовался привилегией, настояв на реальном исполнении наказания – наказания, которого он никогда не видел примененным к свободному афинскому гражданину за пятьдесят лет своей прошлой жизни.
Кратея не пережил своего поступка более чем на три-четыре дня, после чего на трон был возведен ребенок – Орест, сын Архелая, под опекой Эропа. Однако последний примерно через четыре года устранил своего подопечного и сам правил [стр. 49] два года. Затем он умер от болезни, и ему наследовал его сын Павсаний, который после года правления был убит и заменен Аминтой. [117]
Этот Аминта (известный главным образом как отец Филиппа и дед Александра Великого), хотя и состоял в родстве с царской семьей, был не более чем слугой Эропа, [118] пока не стал царем, убив Павсания. [119] Он правил, хотя и с перерывами, двадцать четыре года (393–369 гг. до н. э.) – годы, в основном, бедствий и унижений для Македонии и периодического изгнания для него самого. Эффективная военная организация, введенная Архелаем, по-видимому, пришла в упадок, тогда как частые свержения и убийства царей, начиная с Пердикки, отца Архелая, и вплоть до Аминты, подорвали центральную власть и разобщили различные части Македонского государства, которые естественно стремились к отделению и могли быть удержаны вместе только твердой рукой.
Внутренние области Македонии граничили на севере, северо-востоке и северо-западе с воинственными варварскими племенами – фракийскими и иллирийскими, чьи набеги были нередкими и часто угрожающими. Скорее всего, соблазнившись нестабильностью правительства, иллирийцы вторглись во владения Аминты в первый год его правления; возможно, они были приглашены другими князьями внутренних областей, [120] но в любом случае их появление стало сигналом для недовольных заявить о себе. Аминта, получивший скипетр всего несколькими месяцами ранее через убийство предшественника и не имевший прочной опоры в народе, не только не смог их отразить, но был вынужден оставить Пеллу и даже покинуть Македонию. Отчаявшись, он уступил олинфянам значительную часть соседней территории – Нижнюю Македонию, включая побережье и города вокруг Термейского залива. [121] Поскольку эта уступка представлена как вынужденная мера в момент его отчаяния и изгнания, можно предположить, что она была сделана в обмен на какую-то выгоду или ценный эквивалент, в котором Аминта, несомненно, нуждался в столь критический момент.
Именно в это время мы снова слышим о халкидянах из Олинфа и о конфедерации, которую они постепенно создавали вокруг своего города как центра. Конфедерация, по-видимому, началась с этой уступки Аминты – или, точнее говоря, с его отречения, поскольку уступка того, что он не мог удержать, имела сравнительно мало значения, и мы увидим, что он попытался вернуть ее, как только набрал силу.
Результатом его бегства стал распад правительства Нижней (приморской) Македонии, оставивший города этого региона беззащитными перед иллирийцами и другими захватчиками из внутренних областей. Для этих городов единственным шансом на безопасность было обратиться к греческим городам побережья и совместно с ними организовать конфедерацию для взаимной поддержки. Среди всех греков на том побережье наиболее стойкими и упорными (как они доказали в прежних конфликтах с Афинами на пике их могущества), а также ближайшими были халкидяне из Олинфа.
Теперь олинфяне выступили вперед – приняли в свой союз и под свою защиту небольшие города приморской Македонии, ближайшие к ним, – и вскоре расширили конфедерацию, включив в нее все крупные города этого региона, вплоть до Пеллы, важнейшего города страны. [122] Поскольку они начали это предприятие в то время, когда иллирийцы господствовали в стране, вынудив Аминту к отчаянию и бегству, можно быть уверенным, что это стоило им серьезных усилий, не без большого риска в случае неудачи.
Мы также можем быть уверены, что сами города должны были быть готовыми, если не сказать горячими, соучастниками; подобно тому, как островные и малоазийские греки примкнули к Афинам при создании Делосского союза. У олинфян не было средств завоевать даже менее значительные македонские города, не говоря уже о Пелле, силой и против воли их жителей.
Как иллирийцы были вынуждены отступить и какими шагами создавалась конфедерация, нам неизвестно. Наши сведения (к сожалению, очень скудные) исходят от аканфского посла Клейгена, выступавшего в Спарте примерно десять лет спустя (383 г. до н. э.) и кратко описавшего конфедерацию в том виде, в каком она тогда существовала.
Но есть одно обстоятельство, которое этот свидетель – сам враждебный Олинфу и пришедший просить спартанской помощи против него – подчеркивает особо: равные, великодушные и братские принципы, на которых олинфяне с самого начала строили свою схему. Они не представляли себя как имперский город, подчиняющий зависимых союзников, а приглашали каждый отдельный город принять общие законы и взаимное гражданство с Олинфом, с полной свободой межбрачия, торговых сделок и земельной собственности.
То, что македонские города у моря приветствовали столь либеральное предложение, исходящее от самого могущественного из их греческих соседей, неудивительно, особенно в момент, когда они подвергались набегам иллирийцев, а Аминта бежал из страны. До этого они всегда были подданными; [123] их города (в отличие от греческих) не пользовались собственной автономией в своих стенах; предложение олинфян означало для них свободу взамен прежнего подчинения македонским царям, сочетавшуюся с силой, достаточной для защиты от иллирийцев и других захватчиков.
Возможно также, что в этих городах – Анфеме, Ферме, Халастре, Пелле, Алоре, Пидне и других – среди местного населения была некоторая доля греческих поселенцев, для которых предложение олинфян было особенно привлекательным.
Таким образом, можно понять, почему предложение Олинфа было с радостью принято приморскими македонскими городами. Они первыми добровольно вступили в конфедерацию как равноправные партнеры; олинфяне, заложив эту основу, затем расширили союз, сделав аналогичные либеральные предложения греческим городам в их округе.
Некоторые из последних присоединились добровольно; другие не осмелились отказаться; в результате конфедерация включила в себя значительное число греков – особенно Потидею, расположенную на Истме Паллены и контролировавшую путь сообщения между городами внутри Паллены и материком.
Олинфяне строго придерживались провозглашенных принципов равного и тесного партнерства, избегая любых посягательств или обидного преобладания в пользу своего города. Но, несмотря на такую либеральную политику, они столкнулись среди греческих соседей с сопротивлением, которого не испытывали со стороны македонян.
Каждый из греческих городов привык к своей собственной городской автономии и отдельному гражданству, со своими особыми законами и обычаями. Все они были привязаны к этому виду обособленной политической жизни одним из самых устойчивых и универсальных инстинктов греческого духа; все они расставались с ним неохотно, даже соглашаясь вступить в Олинфскую конфедерацию с ее щедрыми обещаниями, повышенной безопасностью и очевидными преимуществами; а некоторые, пренебрегая всеми перспективами, вообще отказывались изменить свое положение, кроме как под угрозой меча.
Среди этих последних были Аканф и Аполлония – крупнейшие города (после Олинфа) на Халкидском полуострове и, следовательно, наименее неспособные стоять самостоятельно.
К ним олинфяне не обращались, пока не привлекли в свою конфедерацию значительное число других греческих и македонских городов. Затем они предложили Аканфу и Аполлонии вступить на тех же условиях равного союза и общего гражданства. Получив отказ, они послали второе сообщение, предупреждая, что, если предложение не будет принято в определенный срок, они прибегнут к принудительным мерам.
Настолько могущественной уже была военная сила Олинфской конфедерации, что Аканф и Аполлония, неспособные сопротивляться без иностранной помощи, отправили послов в Спарту, чтобы изложить положение дел на Халкидском полуострове и просить вмешательства против Олинфа.
Их посольство достигло Спарты около 383 г. до н. э., когда спартанцы, раздробив Мантинею на деревни и подчинив Флиунт, полностью господствовали над Пелопоннесом – а также распустили Беотийскую федерацию, разместив гармостов в Платеях и Феспиях для контроля над Фивами.
Аканфянин Клейген, обращаясь к собранию спартанцев и их союзников, нарисовал тревожную картину недавнего роста и перспективных тенденций Олинфа, призывая к вмешательству против этого города.
Олинфская конфедерация (по его словам) уже включала множество городов, малых и великих, греческих и македонских – Аминта потерял свое царство. Ее военная мощь, уже значительная, росла с каждым днем. [124] Территория, охватывающая обширные плодородные хлебные земли, могла прокормить многочисленное население. Древесина для кораблестроения была под рукой, а многочисленные [стр. 54] гавани союзных городов обеспечивали оживленную торговлю и стабильные доходы от таможенных пошлин. Соседние фракийские племена легко могли быть удержаны в добровольной зависимости, увеличивая военную силу Олинфа; даже золотые рудники Пангея скоро оказались бы в ее надежных руках.
«Все, что я вам сейчас говорю (такова суть его речи), – предмет общих разговоров среди олинфского народа, полного надежд и уверенности. Как вы, спартанцы, так тревожно старающиеся предотвратить объединение беотийских городов, [125] можете допустить формирование куда более грозной силы – как на суше, так и на море – этой Олинфской конфедерации? Посольства уже были отправлены туда из Афин и Фив – и олинфяне постановили отправить ответное посольство для заключения союза с этими городами; таким образом, ваши враги получат значительное подкрепление.
Мы, аканфяне и аполлонийцы, отказавшиеся добровольно присоединиться к конфедерации, получили предупреждение, что, если будем упорствовать, нас заставят. Теперь мы хотим сохранить наши отеческие законы и обычаи, оставаясь самостоятельным городом. [126] Но если не получим помощи от вас, нам придется присоединиться к ним – как уже сделали несколько других городов, не осмелившихся отказаться; города, которые послали бы послов вместе с нами, если бы не боялись оскорбить олинфян.
Эти города, если вы вмешаетесь немедленно и с мощной силой, теперь отпадут от новой конфедерации. Но если вы отложите вмешательство и позволите конфедерации укрепиться, их настроения скоро изменятся. Они сплотятся в крепкое единство благодаря совместному гражданству, межбрачию и взаимному владению землей, которые уже предусмотрены. Все они убедятся, что имеют общий интерес как в принадлежности, так и в укреплении конфедерации – подобно тому, как аркадцы, следуя за вами, спартанцами, как союзники, не только сохраняют свою собственность, но и грабят других.
Если из-за вашей задержки притягательные тенденции конфедерации начнут действовать, вы скоро обнаружите, что распустить ее будет не так просто.» [127]
Эта речь аканфского посла примечательна во многих отношениях. Исходя от врага, она является лучшим свидетельством либерального и всеобъемлющего духа, в котором действовали олинфяне. Их обвиняют – не в несправедливости, не в эгоистичных амбициях, не в унижении окружающих – а буквально в организации нового партнерства на слишком щедрых и соблазнительных принципах; в мягком замещении, а не насильственном разрушении барьеров между различными городами через взаимные связи собственности и семьи среди граждан каждого; в объединении их всех в новую политическую общность, где не только все будут пользоваться равными правами, но и все без исключения окажутся в выигрыше.
Преимущество – как в безопасности, так и в силе – которое в перспективе получат все, не только признается оратором, но и стоит во главе его аргумента. «Поторопитесь и разрушьте конфедерацию (он убеждает Спарту) до того, как ее плоды созреют, чтобы союзники никогда не вкусили их и не узнали, насколько они хороши; ибо если узнают, вы не заставите их отказаться.»
По умолчанию он также признает – и не говорит ничего, что могло бы даже вызвать сомнение – что города, которые он представляет, Аканф и Аполлония, разделили бы эту выгоду вместе с остальными. Но греческий политический инстинкт тем не менее преобладал: «Мы хотим сохранить наши отеческие законы и быть городом сами по себе.»
Так прямо излагается возражение; когда вопрос стоял не о том, потеряет ли Аканф свою свободу и станет подвластным имперскому городу, подобному Афинам, – а о том, станет ли он свободным и равноправным членом более крупного политического объединения, скрепленного всеми узами, способными сделать союз надежным, выгодным и достойным.
Любопытно наблюдать, как оратор прекрасно осознает, что это отвращение, хотя в данный момент преобладающее, по сути преходяще и уступит место привязанности, когда союз станет ощущаться как реальность; и как горячо он призывает Спарту не медлить с тем, чтобы закрепить отвращение, пока оно длится.
Он апеллирует к ней не ради каких-либо благотворных или общеэллинских целей, а в интересах ее собственного господства, которое требовало, чтобы греческий мир был, так сказать, распылен на мелкие, самоуправляющиеся, не связанные между собой атомы – так, чтобы каждый город или деревня, будучи защищены от подчинения кому-либо другому, также были бы лишены возможности равноправного политического объединения или слияния с кем-либо другим; становясь тем самым совершенно беспомощными и зависимыми по отношению к Спарте.
Просьбы о помощи против Олинфа поступили в Спарту не только от Аканфа и Аполлонии, но и от свергнутого македонского царя Аминты. Похоже, что Аминта, после того как покинул царство и уступил олинфянам, получил некоторую помощь от Фессалии и попытался вернуть себе власть силой. В этом предприятии он потерпел неудачу, потерпев поражение от олинфян. Более того, мы встречаем упоминание о другом претенденте на македонский скипетр – некоем Аргее, который владел им два года. [128]
После выслушивания этих просителей лакедемоняне сначала заявили о своей готовности удовлетворить их просьбу и покорить Олинф; затем они вынесли этот вопрос на голосование собравшихся союзников. [129] Среди последних не было искренней неприязни к олинфянам, подобной той, которая преобладала против Афин перед Пелопоннесской войной, на синоде, проведённом тогда в Спарте. Но власть Спарты над её союзниками теперь была гораздо сильнее, чем тогда. Большинство их городов находилось под олигархиями, зависящими от её поддержки для власти над своими согражданами; более того, недавние события в Беотии и при [p. 57] Мантинее послужили серьёзным устрашением. Стремление сохранить благосклонность Спарты было, соответственно, первостепенным, так что большинство ораторов, как и большинство голосов, высказались за войну, [130] и было решено собрать объединённую армию в десять тысяч человек. Для достижения этой численности на каждого конфедерата была наложена пропорциональная квота; вместе с этим впервые было добавлено условие, что каждый мог предоставить деньги вместо людей, по ставке три эгинских обола (половина эгинской драхмы) за каждого гоплита. Кавалерист, для тех городов, которые их предоставляли, приравнивался к четырём гоплитам; гоплит – к двум пельтастам; или денежный взнос по той же шкале. Все города, не выполнившие обязательства, подлежали штрафу в один статер (четыре драхмы) в день за каждого не присланного солдата; штраф должен был взиматься Спартой. [131] Такая разрешённая замена личной службы денежным взносом аналогична той, которую я уже описывал как имевшую место почти столетием ранее в Делосской лиге под предводительством Афин. [132] Эта система вряд ли могла быть широко применена среди союзников Спарты, которые были одновременно беднее и более воинственны, чем союзники Афин. Но в обоих случаях она была выгодна амбициям ведущего государства; и здесь становится очевидной тенденция узаконить, формальностью публичного решения, то возросшее лакедемонское преобладание, которое уже сложилось на практике.
Аканфские послы, выражая своё удовлетворение только что принятым решением, намекнули, что сбор этих многочисленных контингентов займёт некоторое время, и вновь настаивали на необходимости немедленного вмешательства, даже с небольшими силами; прежде чем олинфяне успеют привести свои планы в действие или заручиться поддержкой окружающих городов. Умеренные лакедемонские силы (по их словам), если будут отправлены немедленно, не только [p. 58] удержат тех, кто отказался присоединиться к Олинфу, в их отказе, но и побудят других, присоединившихся неохотно, к отпадению. Соответственно, эфоры немедленно назначили Евдамида, выделив ему две тысячи гоплитов – неодамодов (или вольноотпущенных илотов), периэков и скиритов или аркадских пограничников. Столь велико было стремление аканфян к поспешности, что они не позволили ему даже задержаться, чтобы собрать все эти умеренные силы. Он выступил немедленно с теми, кто был готов; в то время как его брат Фойбида остался, чтобы собрать остальных и последовать за ним. И, кажется, аканфяне судили правильно. Ибо Евдамид, прибыв во Фракию после быстрого марша, хотя и не смог противостоять олинфянам в поле, всё же сумел склонить Потидею к отпадению от них и смог защитить такие города, как Аканф и Аполлония, которые твёрдо держались в стороне. [133] Аминта привёл войска для сотрудничества с ним.