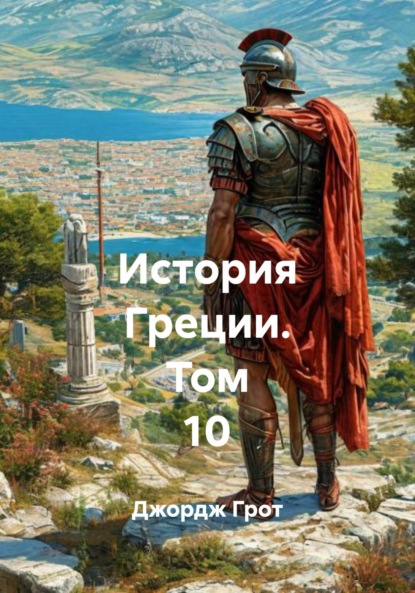- -
- 100%
- +
Такое положение дел сделало Спарту объектом той же смеси страха и ненависти (с преобладанием первого), которую пятьдесят лет назад вызывали имперские Афины, когда их называли «городом-тираном» [160]. И это чувство усугублялось недавним Анталкидовым миром, во всех смыслах делом рук Спарты, которая сначала добилась его, а затем привела в исполнение. Этот мир был позорен уже тем, что его продиктовал персидский царь, он проводился от его имени и отдавал ему всех греков Малой Азии. Но он стал ещё позорнее, когда обещанная всеобщая автономия оказалась на деле лишь подчинением Спарте. Из всех действий, совершённых Спартой как в извращении обещанной автономии, так и в нарушении общепризнанных норм справедливости между городами, самым вопиющим был недавний захват и оккупация Кадмеи в Фивах. Её разрушение (в союзе с македонским царём Аминтой и отчасти в его интересах) свободного Олинфского союза едва ли меньше оскорбляло каждого грека с широкой или общеэллинской патриотической позиции. Она представала как союзница персидского царя с одной стороны, Аминты Македонского – с другой, сиракузского тирана Дионисия – с третьей, предавая независимость Греции в руки чужеземцев и стремясь подавить повсюду внутри неё свободный дух, мешавший её собственным гармостам и партийным олигархиям.
Однако, как бы ни была непопулярна Спарта, она оставалась бесспорным лидером Греции. Никто не осмеливался оспаривать её главенство или призывать к сопротивлению против него. Тон патриотически настроенных и свободомыслящих греков того времени отражают два выдающихся жителя Афин – Лисий и Исократ. Первый из этих риторов составил речь, которую публично прочёл в Олимпии во время празднования 99-й Олимпиады в 384 году до н. э., через три года после Анталкидова мира. В этой речи (от которой, к сожалению, сохранился лишь фрагмент, переданный Дионисием Галикарнасским) Лисий поднимает крик об опасности для Греции, исходящей отчасти от персидского царя, отчасти от тирана Дионисия Сиракузского [161]. Он призывает всех греков отбросить взаимную вражду и зависть и объединиться против этих двух действительно грозных врагов, как их предки делали прежде, с равным рвением свергая тиранов и отражая чужеземцев. Он отмечает, сколько греков (в Азии) передано персидскому царю, чьё огромное богатство позволит ему нанять бесчисленное множество греческих солдат и чей флот превосходит всё, что могут собрать греки, тогда как сильнейший флот в Греции принадлежит сиракузскому Дионисию. Признавая лакедемонян во главе Греции, Лисий выражает удивление, что они спокойно позволяют огню перекидываться от одного города к другому. Они должны воспринимать бедствия городов, уничтоженных как персами, так и Дионисием, как свои собственные, а не терпеливо ждать, пока две враждебные силы объединятся для удара по ещё независимой центральной Греции.
Из двух общих врагов – Артаксеркса и Дионисия, – которых Лисий таким образом обличает, последний прислал на эти самые Олимпийские игры великолепное Феорийское посольство (Феорию) для совершения торжественных жертвоприношений от его имени, вместе с несколькими колесницами для участия в гонках и отличными рапсодами, чтобы декламировать стихи, сочинённые им самим. Сиракузское посольство во главе с Феаридом, братом Дионисия, было облачено в роскошные одеяния и размещено в шатре необычайной пышности, украшенном золотом и пурпуром – вероятно, подобного не видели со времён показной демонстрации Алкивиада [162] на 90-й Олимпиаде (420 год до н. э.). Призывая собравшихся зрителей, как греков, выступить за освобождение своих собратьев, порабощённых Дионисием, Лисий убеждал их немедленно начать враждебные действия против последнего, разграбив роскошный шатёр перед ними, оскорблявший священную равнину Олимпии видом богатств, награбленных у страдающих греков. Похоже, это призыв был частично, но лишь частично, исполнен [163]. Некоторые напали на шатры, но, вероятно, были без труда остановлены элейскими надзирателями. Тем не менее этот эпизод в сочетании с речью Лисия помогает нам понять страхи и сочувствие, волновавшие олимпийскую толпу в 384 году до н. э.
Это были первые Олимпийские игры после Анталкидова мира – игры памятные не только потому, что на них вновь собрались афиняне, беотийцы, коринфяне и аргейцы, которым предыдущая война, должно быть, мешала приехать ни в 388, ни в 392 годах до н. э., но и потому, что на них присутствовали посетители и феории от малоазийских греков – впервые с тех пор, как они были преданы Спартой персам, – а также от многочисленных италийских и сицилийских греков, порабощённых Дионисием. Все эти страдальцы, особенно азиатские греки, несомненно, были полны жалоб на тяготы своей новой участи и на Спарту, предавшую их; жалоб, которые находили искренний отклик у афинян, фиванцев и всех, кто неохотно подчинился Анталкидову миру. Таким образом, здесь собрался значительный запас чувств, готовых отозваться на обличения Лисия. И многие греческие патриоты, которым было бы стыдно поднять руку на сиракузские шатры или послов, тем не менее с горечью согласились бы со словами оратора, что свободный греческий мир горит [164] с обеих сторон; что азиатские, италийские и сицилийские греки уже попали в руки Артаксеркса и Дионисия; и что если эти два грозных врага объединятся, свобода даже центральной Греции окажется под большой угрозой.
Легко понять, как такие чувства горя и стыда усиливали антипатию к Спарте. Лисий в сохранившейся части своей речи скрывает осуждение под маской удивления. Но Исократ, написавший аналогичную речь четырьмя годами позже (возможно, прочитанную на следующих Олимпийских играх в 380 году до н. э.), выражается откровеннее. Он обвиняет лакедемонян в предательстве общей безопасности и свободы Греции, в поддержке чужеземных царей и греческих тиранов, стремящихся к усилению за счёт автономных греческих городов – всё ради их собственных корыстных амбиций. Неудивительно, говорит он, что свободный и самостоятельный эллинский мир день ото дня сужается, когда верховная Спарта помогает Артаксерксу, Аминте и Дионисию поглотить его – и сама совершает несправедливые нападения на Фивы, Олинф, Флиунт и Мантинею [165].
Предыдущие цитаты из Лисия и Исократа достаточно показывают, как оценивали умные современники состояние Греции и поведение Спарты в течение восьми лет, последовавших за Анталкидовым миром (387–379 гг. до н. э.). Но даже филолаконянин Ксенофонт ещё более резко осуждает Спарту. Описав её триумфальное и, казалось бы, неуязвимое положение после покорения Олинфа и Флиунта, он продолжает: [166] – «Я мог бы привести множество других примеров как в Греции, так и за её пределами, доказывающих, что боги тщательно следят за нечестивцами и злодеями; но событий, о которых я сейчас расскажу, вполне достаточно. Лакедемоняне, поклявшиеся сохранять автономию каждого города, нарушили свои клятвы, захватив фиванский акрополь, и были наказаны теми самыми людьми, которым причинили зло, – хотя до этого никто в мире не мог их победить. А фиванские заговорщики, которые ввели их в акрополь с намерением поработить свой город Спарте, чтобы самим править деспотически, – были свергнуты всего семью нападавшими из числа изгнанников, которых они сами изгнали».
Какой же должна была быть ненависть и чувство утраченного превосходства у нейтральных или враждебных Спарте греков, если даже Ксенофонт, известный своей приверженностью Спарте и неприязнью к Фивам, мог употребить такие решительные слова, предвещая грядущий этап спартанского унижения и представляя его как заслуженную кару богов? Приведённый мной отрывок отмечает, в свойственной «Греческой истории» Ксенофонта обыденной манере, тот же момент резкого контраста и перехода – былой славы, внезапно и неожиданно омрачённой новыми несчастьями, – который у Фукидида предвосхищён в диалоге афинских послов с мелийским [167] советом, а в «Эдипе» и «Антигоне» Софокла [168] – в предостережениях пророка Тиресия.
Уже три года (со времён удара, нанесённого Фойбидом) фиванское правительство находилось в руках Леонтиада и его олигархических сторонников, поддерживаемых спартанским гарнизоном на Кадмее. О деталях их действий у нас почти нет сведений. Мы можем судить о них лишь по аналогии с правлением Тридцати тиранов в Афинах и лисандровых декархий, с которыми оно было схоже по происхождению, положению и интересам. Несомненно, его общий дух был жестоким, угнетающим и хищническим, хотя в какой степени – мы не знаем. [стр. 79] Неконтролируемые правители, как и многочисленный иностранный гарнизон, гарантировали такой исход; кроме того, эти правители постоянно опасались восстаний или заговоров среди свободолюбивых граждан, видевших, как их город, некогда глава Беотийского союза, превратился в зависимый от Спарты пленённый город. Эти страхи усиливались из-за близости многочисленных фиванских изгнанников из противоположной, антиспартанской партии: триста или четыреста из них бежали в Афины после ареста их лидера Исмениаса, и позже к ним присоединились другие.
Фиванские правители так боялись этих изгнанников, что нанимали убийц для их тайного устранения в Афинах. Им удалось убить Андроклида, главу изгнанников и преемника покойного Исмениаса, но остальные избежали смерти. [169] Мы можем быть уверены, что тюрьма в Фивах использовалась для множества злодеяний и казней, поскольку в ней при свержении режима обнаружили сто пятьдесят заключённых, [170] а во время революционного восстания убитый тюремщик вызвал такую ярость, что толпа фиванских женщин топтала и плевала на его труп. [171] В Фивах, как и в других греческих городах, женщины не только не участвовали в политике, но и редко появлялись на публике; [172] поэтому эта яростная демонстрация мести должна была быть вызвана потерей или мучениями сыновей, мужей и братьев.
Фиванские изгнанники нашли в Афинах не только убежище, но и искреннее сочувствие к их жалобам на спартанскую несправедливость. Великодушная поддержка, оказанная фиванцами двадцать четыре года назад Фрасибулу и другим афинским изгнанникам во время правления Тридцати, теперь была с благодарностью возмещена, несмотря на угрозы Спарты, требовавшей изгнать беглецов – подобно тому, как она когда-то требовала выдачи афинских беженцев из Фив. [173] Однако защита этих изгнанников была всем, что могли сделать Афины. Их возвращение было задачей, непосильной для Афин – и, казалось, ещё более непосильной для самих изгнанников.
Фиванское правительство прочно держало власть, полностью контролируя граждан. Управляемое небольшой кликой – Архием, Филиппом, Гипатом и Леонтиадом (из которых первые двое были в тот момент полемархами, хотя последний был самым энергичным и решительным), – оно опиралось на гарнизон из полутора тысяч лакедемонян и союзников [174] под командованием Лисандрида и двух других гармостов на Кадмее, а также на спартанские гарнизоны в других беотийских городах – Орхомене, Феспиях, Платеях, Танагре и др. Хотя большинство фиванцев в городе были настроены против правительства, а молодёжь, занимаясь в палестрах (гимнастика в Фивах практиковалась усерднее, чем где-либо, кроме Спарты), поддерживала дух скрытого патриотизма, – любое проявление недовольства или собрание жёстко подавлялось, а ключевые посты в нижнем городе и акрополе бдительно охранялись правящим меньшинством. [175]
Некоторое время фиванские изгнанники в Афинах ждали восстания на родине или помощи от афинян. Наконец, на третью зиму после бегства они, отчаявшись, решили действовать самостоятельно. Среди них были представители самых знатных и богатых фиванских семей, владельцы колесниц, наездники и тренеры, участвовавшие в различных состязаниях: Пелопид, Меллон, Дамоклид, Феопомп, Ференик и другие. [176]
Самым решительным среди них, несмотря на молодость, был Пелопид; его отвага и самоотверженность в казалось бы безнадёжном предприятии вдохновили горстку товарищей. Изгнанники, поддерживая связь с друзьями в Фивах, были уверены в симпатии большинства граждан, если бы им удалось нанести удар. Однако для успеха нужно было устранить четырёх правителей – Леонтиада и его соратников, – но никто в городе не решался на такой риск.
Этот заговор взяли на себя Пелопид, Меллон и ещё пять или десять изгнанников (их число в разных источниках варьируется от семи до двенадцати [177]). Многие их сторонники в Фивах помогали им, хотя сами не решались стать главными действующими лицами. Самыми ценными союзниками были Филид, секретарь полемархов, и Харон, видный и преданный патриот. Филид, отправленный в Афины по делам, тайно договорился с заговорщиками о дне их прибытия в Фивы и даже обещал обеспечить им доступ к полемархам. Харон не только предложил укрытие в своём доме с момента их прибытия до решающего удара, но и согласился участвовать в нападении.
Тем не менее, несмотря на такую поддержку, план казался отчаянным даже многим сочувствующим. Например, Эпаминонд (впервые появляющийся здесь), живший в Фивах и не только разделявший взгляды Пелопида, но и связанный с ним дружбой, отговаривал других от участия, заявив, что не станет соучастником кровопролития. [178] Он опасался, что некоторые изгнанники, в отличие от Пелопида, могут после успеха учинить расправу над политическими противниками.
День операции назначил Филид, устроивший вечерний пир для Архия и Филиппа по случаю окончания их полномочий как полемархов и пообещавший привести на него знатных и красивых женщин. [179] Согласовав действия с остальными изгнанниками в Афинах (готовыми выступить к Фивам по сигналу) и с двумя афинскими стратегами (тайно поддержавшими заговор без официального решения), Пелопид, Меллон и пятеро их спутников [180] перешли Киферон из Афин в Фивы.
Был декабрь 379 г. до н. э., шёл дождь. Они переоделись крестьянами или охотниками, спрятав кинжалы, и поодиночке вошли в город на закате, смешавшись с возвращавшимися с полей земледельцами. Все благополучно добрались до дома Харона, назначенного местом сбора.
Однако случай едва не сорвал весь план. Фиванец Гиппостенид, знавший о заговоре, но струсив в последний момент, без ведома остальных послал раба Меллона Хлидона остановить заговорщиков. Но Хлидон, поссорившись с женой из-за уздечки, так и не уехал, [181] и предупреждение не дошло.
В доме Харона они оставались скрытыми весь следующий день, вечером которого должен был состояться пир Архия и Филиппа. Филид разработал план, как ввести их на этот пир в тот момент, когда оба полемарха будут уже пьяны, переодетыми женщинами, как тех самых [стр. 84] женщин, визит которых ожидался. Час почти настал, и они готовились сыграть свои роли, когда неожиданный посыльный постучал в дверь, требуя, чтобы Харон немедленно явился к полемархам. Все внутри были поражены этим вызовом, который, казалось, означал, что заговор был раскрыт, возможно, трусливым Гипостенидом. Они согласились, что Харон должен немедленно подчиниться. Тем не менее, он сам, даже в этой опасной неопределенности, больше всего боялся, что его друзья, которых он укрывал, заподозрят его в предательстве по отношению к ним и их делу. Поэтому перед уходом он послал за своим единственным сыном, юношей пятнадцати лет, подававшим большие надежды во всех отношениях. Этого юношу он передал в руки Пелопида, как залог своей верности. Но Пелопид и остальные, горячо отвергая любые подозрения, умоляли Харона увести сына подальше от опасности, в которой все они теперь оказались. Однако Харона не удалось уговорить, и он оставил сына среди них, чтобы тот разделил судьбу остальных. Он отправился к Архию и Филиппу, которых застал уже наполовину пьяными, но получившими из Афин сведения о том, что какой-то заговор, о котором они ничего не знали, готовится. Они вызвали его, чтобы допросить, как известного друга изгнанников; но ему, с помощью сговора с Филидом, не составило большого труда ослепить смутные подозрения пьяных людей, жаждавших лишь вернуться к своему веселью. [стр. 182] Ему разрешили удалиться и вернуться к своим друзьям.
Однако вскоре после его ухода – столько благоприятных случайностей выпало на долю этих беспечных людей – к полемарху Архию прибыло новое послание от его тезки, афинского иерофанта Архия, с точным описанием имен и плана заговорщиков, которые стали известны [стр. 85] филолаконской партии в Афинах. Посыльный, доставивший это донесение, передал его Архию с предупреждением, что оно касается очень серьезных дел. «Серьезные дела на завтра», – сказал полемарх, положив нераспечатанное и непрочитанное письмо под подушку ложа, на котором он возлежал. [стр. 183]
Вернувшись к своему пиршеству, Архий и Филипп нетерпеливо потребовали от Филида представить обещанных женщин. Тогда секретарь удалился и привел заговорщиков, одетых в женские наряды, в соседнюю комнату; затем, вернувшись к полемархам, он сообщил им, что женщины не войдут, пока все слуги не будут удалены. Тотчас был отдан приказ, чтобы слуги ушли, а Филид позаботился о том, чтобы их хорошо угостили вином в жилище одного из них. Полемархи остались за столом лишь с одним или двумя друзьями, такими же пьяными, как и они сами; среди них был Кабирих, архонт года, который в течение всего срока своего правления держал при себе священное копье должности и имел его в тот момент рядом. Филид теперь ввел мнимых женщин в пиршественный зал; трое из них были одеты как знатные дамы, четверо других следовали за ними как служанки. Их длинные вуали и пышные складки одежды вполне скрывали их облик – даже если бы гости за столом были трезвыми – пока они не сели рядом с полемархами; и момент, когда они подняли вуали, стал сигналом к использованию кинжалов. Архий и Филипп были убиты сразу и почти без сопротивления; но Кабирих с копьем попытался защищаться и погиб вместе с остальными, хотя заговорщики изначально не планировали лишать его жизни. [стр. 86]
Добившись успеха на этом этапе, Филид провел троих заговорщиков – Пелопида, Кефисодора и Дамоклида – в дом Леонтиада, куда он получил доступ, объявив, что принес приказ от полемархов. Леонтиад лежал после ужина, а его жена сидела рядом, пряла шерсть, когда они вошли в его покои. Будучи храбрым и сильным человеком, он вскочил, схватил меч и смертельно ранил Кефисодора в горло; затем между ним и Пелопидом завязалась отчаянная схватка в узком дверном проеме, где не было места для третьего. В конце концов, однако, Пелопид одолел и убил его, после чего они удалились, пригрозив жене молчать и закрыв за собой дверь с категорическим приказом не открывать ее снова. Затем они отправились в дом Гипата, которого убили, когда тот пытался бежать через крышу. [стр. 87]
Теперь, когда четверо главных правителей филолаконской партии в Фивах были убиты, Филид направился с заговорщиками к тюрьме. Здесь тюремщик, доверенное лицо в угнетениях покойных правителей, колебался, впускать ли его; но был убит внезапным ударом копья, что обеспечило свободный вход всем. Освободить заключенных – вероятно, в основном людей, близких по духу заговорщикам, – вооружить их оружием, взятым из трофеев, висевших в соседних портиках, и построить их в боевой порядок у храма Амфиона – таковы были следующие действия; после чего они начали чувствовать некоторую уверенность в безопасности и победе. [стр. 186] Эпаминонд и Горгид, узнав о произошедшем, первыми явились в оружии с несколькими друзьями, чтобы поддержать дело; в то время как глашатаи повсюду громко объявляли, что тираны убиты, что Фивы свободны, и что все фиванцы, ценящие свободу, должны собраться в оружии на рыночной площади. В тот момент в Фивах находилось много трубачей, приехавших соревноваться за приз на предстоящем празднике Гераклеи. Гипостенид уговорил их трубить в разных частях города, чтобы повсюду поднять граждан на вооруженное сопротивление. [стр. 187]
Хотя в темноте преобладало чувство неожиданности, и никто не знал, что делать, – как только рассвело и правда стала известна, среди большинства граждан воцарились лишь радость и патриотический энтузиазм. [стр. 88] И всадники, и гоплиты поспешили в оружии на агору. Здесь впервые со времени захвата Кадмеи Фойбидом было созвано официальное собрание фиванского народа, перед которым предстали Пелопид и его соратники. Жрецы города увенчали их венками и поблагодарили от имени местных богов; а собрание приветствовало их возгласами радости и благодарности, единогласно назвав Пелопида, Мелона и Харона первыми возрожденными беотархами. [стр. 189] Возрождение этого титула, который не использовался со времени Анталкидова мира, само по себе было событием немалой важности; оно означало не только то, что Фивы вновь обрели свободу, но и то, что Беотийский союз также был или будет восстановлен.
Заговорщики немедленно отправили гонцов в Аттику, чтобы сообщить об их успехе; после чего все оставшиеся изгнанники, два афинских стратега, посвященные в заговор, и отряд афинских добровольцев, или вольных отрядов, которые уже ждали на границе сигнала, – устремились в Фивы, чтобы завершить дело. Спартанские военачальники, со своей стороны, также послали за помощью в Платеи и Феспии. Всю ночь они были растеряны и встревожены беспорядками в городе; огни мелькали то тут, то там, звучали трубы и крики о недавнем успехе. [стр. 190] Узнав вскоре об убийстве полемархов, от которых они привыкли получать приказы, они не знали, кому доверять или кого спрашивать, в то время как, несомненно, их осаждали перепуганные беглецы из теперь уже разгромленной партии, которые спешили в Кадмею за безопасностью. Сначала они рассчитывали на поддержку сил из Платей и Феспий. Но этим силам даже не позволили приблизиться к городским воротам; их яростно атаковала недавно собранная фиванская конница и заставила отступить с потерями. Таким образом, лакедемоняне в цитадели не только остались без поддержки, но и увидели, что их враги в городе усилены другими изгнанниками и добровольческими отрядами. [стр. 191]
Тем временем Пелопид и другие новые беотархи оказались во главе вооруженных граждан, полных преданности патриотизму и единодушных в приветствии недавней революции. Они воспользовались этим первым порывом энтузиазма, чтобы без промедления подготовиться к штурму Кадмеи, понимая важность упреждения любой помощи из Спарты. И граждане уже бросились на штурм – было объявлено о больших наградах тем, кто первым прорвется внутрь, – когда лакедемонский командир предложил условия капитуляции. [стр. 192] Получив гарантии беспрепятственного выхода из Фив с воинскими почестями, он сдал Кадмею. Когда спартанцы выходили из ворот, многие фиванцы из побежденной партии также вышли. Но против этих последних возмущение победителей было так сильно, что несколько самых ненавистных были схвачены на выходе и убиты; в некоторых случаях даже их дети разделили их участь. И больше бы их постигла та же участь, если бы афинские союзники, с благородной заботой, не приложили все усилия, чтобы увести их из виду и спасти. [стр. 193] Нам не сообщается – да и неизвестно, – были ли эти фиванцы защищены условиями капитуляции. Даже если бы так, их все равно могла постичь участь из-за яростного порыва. Из трех гармостов, которые таким образом сдали Кадмею без боя, двое были казнены, третий – оштрафован и изгнан властями Спарты. [стр. 194] Мы не знаем, каковы были укрепления Кадмеи и насколько она была обеспечена провизией. Но нас едва ли удивляет, что эти командиры были сочтены опозорившими лакедемонское оружие, не попытавшись защитить ее; если вспомнить, что для получения адекватной помощи из дома потребовалось бы чуть более четырех-пяти дней – и что сорок три года спустя македонский гарнизон в том же месте продержался против фиванцев в городе более четырнадцати дней, пока Александр не вернулся из Иллирии. [стр. 195] Первый гонец, принесший в Спарту весть о заговоре и революции в Фивах, похоже, одновременно сообщил, что гарнизон оставил Кадмею и отступает в полном составе, сопровождаемый фиванскими изгнанниками из побежденной партии. [стр. 196] [стр. 91]
Эта революция в Фивах подействовала на греческий мир, как удар электричества. Для современного читателя убийство [стр. 92] четырех вождей в их домах и на пиру вызывает чувство отвращения, которое отвлекает его внимание от других черт этого памятного деяния. Однако древний грек не только не испытывал такого отвращения, но сочувствовал полному возмездию за захват Кадмеи и смерть Исмения; более того, он восхищался необычайной личной отвагой Пелопида и Меллона, искусным расчетом заговора и внезапным свержением правительства, которое еще накануне казалось неуязвимым, силами столь ничтожными по численности. [197] Стоит отметить, что здесь мы видим, как богатейшие люди Фив берут на себя риск, действуя в одиночку и лично, – риск, который при разумной оценке должен был казаться почти безнадежным. От гомеровских Одиссея и Ахилла до конца эллинской свободы богатый грек упражнялся в палестре, [198] и, подобно беднейшим гражданам, стоял в строю как солдат, обычно превосходя их силой и физической выносливостью.
Подобно тому, как фиванская революция сильно подействовала на греков способом своего осуществления, так и своими реальными последствиями она немедленно изменила баланс сил в Греции. Спартанская империя, далекая от того, чтобы быть бесспорной и почти всеобщей [стр. 94] в Греции, отныне поддерживалась лишь с большим или меньшим трудом, пока в конце концов не была полностью уничтожена. [199]