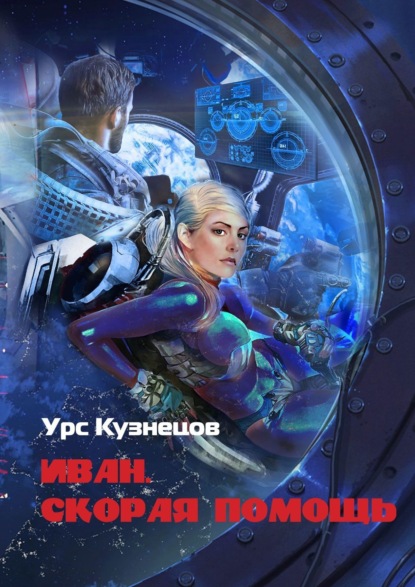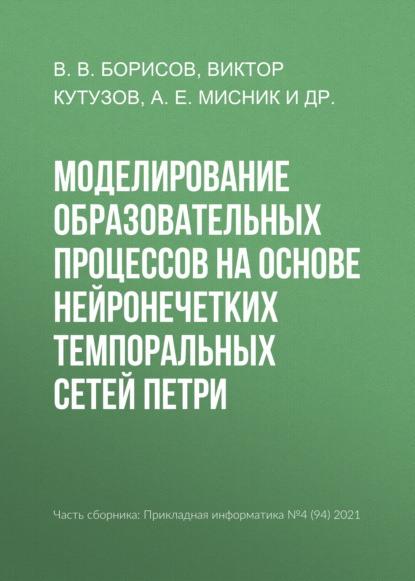- -
- 100%
- +
Другую дорийскую эмиграцию из Пелопоннеса в Крэт, которая распространилась также на Родос и Кос, как говорят далее, возглавил Алтæменес, который был одним из вождей в экспедиции против Аттики, в которой погиб Кродус. Этот принц, Гераклид, третий по происхождению от Тесмена, был вынужден покинуть страну из-за семейной ссоры и привел группу дорийских колонистов из Аргоса сначала в Крэт, где некоторые из них остались; но большая часть сопровождала его на Родос, на котором он, изгнав карийцев, основал три города – Линдус, Ялисус и Камейрус [66].
Здесь уместно добавить, что легенда родосских археологов об их кисти Альтæменесе, которому на острове поклонялись с героическими почестями, была совершенно иной, чем предыдущая. Альтæменес был критянином, сыном царя Катрея и внуком Миноса. Оракул предсказал ему, что однажды он убьет своего отца; желая избежать столь ужасной судьбы, он покинул Крэтэ и отправился колонией на Родос, где ему приписывают основание знаменитого храма атабийского Зевса на возвышенной вершине горы Атабирум, построенного так, чтобы с него открывался вид на Крэтэ. Он прожил на острове некоторое время, когда его отец Катрей, желая вновь обнять своего единственного сына, последовал за ним с Крэтэ: он приземлился на Родосе ночью, не будучи известным, и произошло случайное столкновение между его сопровождающими и островитянами. Альтæменес поспешил на берег, чтобы помочь отразить предполагаемых врагов, и в схватке имел несчастье убить своего престарелого отца [67].
Либо эмигранты, сопровождавшие Алтæменеса, либо некоторые другие дорийские колонисты впоследствии, как сообщается, поселились в Косе, Книде, Карпате и Галикарнасе. В последнем городе, однако, Антэс из Трезена назначен экистом: сопровождавшие его эмигранты, как говорят, принадлежали к племени диманцев, одному из трех племен, всегда встречающихся в дорийском государстве; а город, похоже, характеризовался как колония то Трезена, то Аргоса [68].
Таким образом, мы имеем эолийские, ионические и дорийские колонии в Азии, возникшие в легендарную эпоху и прямо или косвенно являющиеся следствием того, что называют возвращением Гераклидов или дорийским завоеванием Пелопоннеса. Согласно принятой хронологии, за ними следует период, который, как предполагается, составляет почти три столетия, что является почти полным пробелом, прежде чем мы достигнем подлинной хронологии и первой записанной Олимпиады, – и таким образом они образуют завершающие события мифического мира, из которого мы теперь переходим в историческую Грецию, такую, какой она является в последнюю упомянутую эпоху. Именно благодаря этим миграциям части эллинской совокупности распределяются по местам, которые они занимают на рассвете исторического дня, – дорийцы, аркадяне, этоло-элейцы и ахейцы, поровну разделившие между собой Пелопоннес, эолийцы, ионийцы и дорийцы, обосновавшиеся как на островах Эгейского моря, так и на побережье Малой Азии. Возвращение Гераклидов, а также три эмиграции – эолийская, ионийская и дорийская – представляют собой легендарное объяснение, соответствующее чувствам и верованиям народа, показывающее, как Греция перешла от героических рас, осаждавших Трою и Феб, управлявших отважным Арго и убивавших чудовищного вепря Калидона, к историческим расам, по-разному названным и классифицированным, которые обеспечивали победы на Олимпийских и Пифийских играх.
Терпеливый и ученый французский писатель М. Рауль Рошетт, который трактует все события героического века, в общем, как настоящую историю, лишь с поправкой на ошибки и преувеличения поэтов, сильно озадачен пустотой и перерывами, которые представляет собой этот якобы непрерывный ряд истории, начиная с возвращения Гераклидов и заканчивая началом Олимпиад. Он не может объяснить себе столь длительный период абсолютного затишья после важных происшествий и ярких приключений героического века; и если за этот долгий период не произошло ничего достойного записи, – как он предполагает, исходя из того, что ничего не было передано, – он приходит к выводу, что это должно было произойти от состояния страдания и истощения, в котором греки находились после предыдущих войн и революций: для заживления таких ран необходим длительный период полного бездействия. [69] [p. 33]
Если предположить, что взгляд М. Рошетта на героические века верен, и исходить из предположения, что приключения, приписываемые греческим героям, являются исторической реальностью, передаваемой традицией с периода времени за четыре столетия до записанных олимпиад и лишь приукрашенной поэтами-описателями, то пробел, на котором он здесь останавливается, является, по меньшей мере, неловким и необъяснимым. Странно, что поток традиции, если он когда-то начал течь, должен (подобно нескольким рекам в Греции) быть затоплен на два или три столетия, а затем снова появиться. Но если мы проведем, как мне кажется, правильное различие между легендой и историей, то увидим, что период пустого времени между ними вполне соответствует условиям, в которых возникает первая. Не непосредственное прошлое, а предполагаемое отдаленное прошлое формирует подходящую атмосферу мифического повествования, – прошлое, изначально совершенно неопределенное в отношении удаленности от настоящего, как мы видим в «Илиаде» и «Одиссее». И даже когда мы спускаемся к генеалогическим поэтам, которые стремятся дать определенную меру ушедшего времени и последовательность лиц, а также событий, все равно имена, которые они больше всего чтят и о подвигах которых они больше всего рассказывают, – это имена богов и героев предков племени и их предполагаемых современников; предков, отделенных длинной родословной от нынешнего слушателя. Боги и герои представлялись удаленными от него на несколько поколений, и легендарная материя, сгруппированная вокруг них, выглядела еще более внушительной, когда демонстрировалась на почтительном расстоянии, за пределами дней отца и деда, а также всех известных предшественников. Оды Пиндара ярко иллюстрируют эту тенденцию. Таким образом, мы видим, как получилось, что между временем, отведенным для героических приключений, и временем исторических записей существовал промежуточный пробел, заполненный бесславными именами; и как среди того же общества, которое не заботилось о том, чтобы помнить дела отцов и дедов, циркулировало много популярных и признанных рассказов о реальных или предполагаемых предках, давно прошедших и ушедших [p. 34]. 34] Смутные и бесплодные века, которые непосредственно предшествуют первой записанной Олимпиаде, образуют естественный промежуток между легендарным возвращением Гераклидов и историческими войнами Спарты против Мессены, – между областью легенды, где факты (если таковые имеются) так тесно сочетаются с вымыслом, что их невозможно различить без помощи внешних доказательств, – и историей, где некоторые факты могут быть установлены, и где проницательный критик может с пользой для себя попытаться пополнить их число.
Глава XIX. ПРИМЕНЕНИЕ ХРОНОЛОГИИ К ГРЕЧЕСКОЙ ЛЕГЕНДЕ.
Мне нет нужды повторять то, что уже было достаточно изложено на предыдущих страницах: масса греческих происшествий до 776 года до н. э., как мне кажется, не поддается ни истории, ни хронологии, и любая хронологическая система, которая может быть применена к ней, должна быть по сути своей несертифицированной и иллюзорной. Тем не менее, она была хронологизирована в древние времена и продолжает хронологизироваться в современные; различные схемы, используемые для этой цели, можно найти в первом томе (последнем опубликованном) «Fasti Hellenici» мистера Файнса Клинтона. Среди греков, да и среди современных ученых, существовали и существуют значительные разногласия по поводу дат основных событий: [70] Эратосфенес не соглашался ни с Геродотом, ни с Фанием и Каллимахом, а Ларше и Рауль Рошетт (которые следуют Геродоту) противостоят О. Мюллеру и г-ну Клинтону. Чтобы читатель мог составить общее представление о порядке, в котором располагались эти легендарные события, я привожу из «Fasti Hellenica» двойную хронологическую таблицу, содержащуюся на с. 139, в которой даты расположены последовательно, от Форонея до Олимпиады Корэба в 776 г. до н. э., – в первой колонке по системе Эратосфена, во второй – по системе Каллимаха.
«Следующая таблица (говорит мистер Клинтон) предлагает краткий обзор ведущих периодов от Форонея до Олимпиады Коребуса и демонстрирует двойную серию дат; одна исходит из даты Эратосфена, другая – из даты, основанной на сокращенных расчетах Фания и Каллимаха, которые вычеркивают пятьдесят шесть лет из суммы Эратосфена. Фаний, как мы видели, опустил пятьдесят пять лет между Возвращением и зарегистрированной Олимпиадой; так мы можем понять этот счет: Каллимах, пятьдесят шесть лет между Олимпиадой Ифита и Олимпиадой, на которой победил Корибус [71] [p. 36].
Первый столбец этой Таблицы показывает текущие годы до и после падения Трои: во втором столбце дат указаны полные интервалы между событиями.
Хронология мифических и ранних исторических событий Древней Греции, отсчитываемая от даты падения Трои, по версиям Эратосфена и Каллимаха.
События до падения Трои:
За 570 лет до Трои правил Фороне́й (ок. 1753 г. до н.э. по Эратосфену; ок. 1697 г. до н.э. по Каллимаху). Спустя 287 лет, за 283 года до Трои, времена Даная и Пеласга V (ок. 1466 г. до н.э.; ок. 1410 г. до н.э.). Через 33 года, за 250 лет до Трои, произошел потоп при Девкалионе (ок. 1433 г. до н.э.; ок. 1377 г. до н.э.). Еще через 50 лет, за 200 лет до Трои, время Эрехтея и Дардана (ок. 1383 г. до н.э.; ок. 1327 г. до н.э.). Спустя еще 50 лет, за 150 лет до Трои, правление Азана, Афиданта и Элата (ок. 1333 г. до н.э.; ок. 1277 г. до н.э.).
За 130 лет до Трои прибытие Кадма (1313 г. до н.э.; 1257 г. до н.э.). Через 30 лет, за 100 лет до Трои, время Пелопса (ок. 1283 г. до н.э.; ок. 1227 г. до н.э.). Спустя 22 года, за 78 лет до Трои, рождение Геракла (1261 г. до н.э.; 1205 г. до н.э.). Через 36 лет, за 42 года до Трои, поход аргонавтов (ок. 1225 г. до н.э.; ок. 1169 г. до н.э.). Спустя 12 лет, за 30 лет до Трои, началась Первая Фиванская война (1213 г. до н.э.; 1157 г. до н.э.).
Через 4 года, за 26 лет до Трои, смерть Геракла (1209 г. до н.э.; 1153 г. до н.э.). Спустя 2 года, за 24 года до Трои, смерть Эврисфея (1207 г. до н.э.; 1151 г. до н.э.). Через 4 года, за 20 лет до Трои, смерть Гилла (1203 г. до н.э.; 1147 г. до н.э.). Спустя 2 года и 9 месяцев, за 18 лет до Трои, воцарение Агамемнона (1200 г. до н.э.; 1144 г. до н.э.). Через 2 года, за 16 лет до Трои, Вторая Фиванская война (1198 г. до н.э.; 1142 г. до н.э.). Спустя 6 лет, за 10 лет до Трои, начался Троянский поход, длившийся 9 лет и 1 месяц (1192 г. до н.э.; 1136 г. до н.э.).
Падение Трои:
Само падение Трои (или его взятие) датируется 1183 г. до н.э. по Эратосфену и 1127 г. до н.э. по Каллимаху.
События после падения Трои:
На 8-м году после Трои Орест воцарился в Аргосе (1176 г. до н.э.; 1120 г. до н.э.). Спустя 52 года, на 60-м году после Трои, фессалийцы заняли Фессалию, беотийцы вернулись в Беотию, а также началась Эолийская миграция под предводительством Пентила (1124 г. до н.э.; 1068 г. до н.э.). Через 20 лет, на 80-м году после Трои, произошло Возвращение Гераклидов (1104 г. до н.э.; 1048 г. до н.э.). Спустя 29 лет, на 109-м году после Трои, Алет воцарился в Коринфе (1075 г. до н.э.; 1019 г. до н.э.). Через 1 год, на 110-м году после Трои, миграция Тераса (1074 г. до н.э.; 1018 г. до н.э.).
Спустя 21 год, на 131-м году после Трои, остров Лесбос был занят (1053 г. до н.э.; 997 г. до н.э.). Через 8 лет, на 139-м году после Трои, смерть Кодра (1045 г. до н.э.; 989 г. до н.э.). Спустя 1 год, на 140-м году после Трои, началась Ионийская миграция (1044 г. до н.э.; 988 г. до н.э.). Через 11 лет, на 151-м году после Трои, основана Кима (1033 г. до н.э.; 977 г. до н.э.). Спустя 18 лет, на 169-м году после Трои, основана Смирна (1015 г. до н.э.; 959 г. до н.э.).
Через 131 год, на 300-м году после Трои, была установлена Олимпиада Ифита (884 г. до н.э.; 828 г. до н.э.). Спустя 108 лет, на 408-м году после Трои, состоялась первая историческая Олимпиада Короиба (776 г. до н.э. по обеим системам отсчета).
[стр. 37] Во всех случаях, где хронология возможна, исследования, подобные тем, что провёл мистер Клинтон и которые столь способствовали лучшему пониманию поздних времён Греции, заслуживают уважительного внимания. Но самый искусный хронолог ничего не сможет достичь, если у него нет надёжной основы фактов, очищенных от вымысла и подтверждённых свидетелями, которые знают правду и готовы её изложить. Обладая такой исходной базой, он может использовать её для опровержения ложных утверждений и исправления частичных ошибок. Но если все предоставленные ему первоначальные сведения содержат правду (по крайней мере, там, где она есть) в своего рода химическом соединении с вымыслом, которое он не в силах разложить, – он оказывается в положении человека, пытающегося решить задачу без исходных данных: сначала он вынужден сам создать эти данные, а уже затем выводить из них свои заключения.
Свидетельства эпических поэтов, наших единственных первоначальных источников в данном случае, соответствуют этому описанию. Независимо от того, насколько мала или велика доля правды в них, она остаётся неопределимой, – а постоянное и тесное смешение с вымыслом не только само по себе очевидно, но и, по сути, неизбежно для целей и задач тех, от кого эти сказания исходят. Таковы все свидетельствующие источники, даже когда их повествования совпадают; и именно из груды таких сказаний, не совпадающих, а противоречащих друг другу тысячей способов, без крупицы достоверной подтверждённой истины, – критик должен выстроить упорядоченную последовательность исторических событий, украшенных хронологическими датами.
Если бы мы могли представить себе современного ученого-критика, перенесенного в Грецию во время Персидской войны, – с его нынешними привычками оценивать исторические свидетельства, не разделяя религиозных или патриотических чувств страны, – и приглашенного подготовить из огромного корпуса греческого эпоса, который тогда существовал, историю и хронологию Греции до 776 г. до н. э., обосновав как то, что он признает, так и то, что он отвергает, – я убежден, что он оценил бы это начинание не лучше, чем процесс гадания. Но современный критик обнаруживает, что не только Ферекидес и Элланик, но и Геродот и Фукидид либо пытались выполнить эту задачу, либо утверждали, что она выполнима, – что совсем не удивительно, если принять во внимание их узкий кругозор и исторические свидетельства. 38] опыт исторических свидетельств и мощное превосходство религии и патриотизма в предрасположении к античной вере, – и поэтому он принимает проблему в том виде, в каком они ее завещали, добавляя свои собственные усилия, чтобы привести ее к удовлетворительному решению. Тем не менее, он не только следует за ними с некоторой долей сдержанности и беспокойства, но даже допускает важные различия, совершенно чуждые их привычкам мышления. Фукидид говорит о деяниях Эллина и его сыновей с такой же уверенностью, с какой мы сейчас говорим о Вильгельме Завоевателе: Мистер Клинтон признает Эллина с его сыновьями Дорусом, Эолом и Ксутом вымышленными личностями. Геродот перечисляет великие героические генеалогии, начиная с Кадма и Даная, с верой не менее полной в высших членов серии, чем в низших: но мистер Клинтон допускает радикальное различие в свидетельствах о событиях до и после первой записанной Олимпиады, или 776 года до н. э., – «первой даты в греческой хронологии (замечает он, стр. 123), которая может быть зафиксирована на основе достоверных свидетельств», – высшей точки, до которой может быть доведена греческая хронология, считая вверх. Об этой важной эпохе в греческом развитии – начале подлинной хронологической жизни – Геродот и Фукидид не знали и не принимали во внимание: более поздние хронологи, начиная с Тимея, отметили ее и сделали основой своих хронологических сравнений, насколько это было возможно: но ни Эратосфенес, ни Аполлодорус, похоже, не признали (хотя Варро и Африкан признали) заметную разницу в отношении определенности или подлинности между периодом до и периодом после.
В качестве дальнейшей иллюстрации мнения г-на Клинтона о том, что первая записанная Олимпиада является самой ранней датой, которая может быть установлена на основании достоверных свидетельств, мы имеем, на стр. 138, следующие справедливые замечания в отношении несогласных мнений Эратосфена, Фания и Каллимаха о дате Троянской войны: «Хронология Эратосфена (говорит он), основанная на тщательном сопоставлении обстоятельств и одобренная теми, кому были открыты те же источники информации, заслуживает нашего уважения. Но мы должны помнить, что предположительная дата никогда не может подняться до авторитета доказательства; что то, что принимается в качестве замены свидетельства, не является эквивалентом: только свидетели могут доказать дату, а в отсутствие таковых знание о ней явно недоступно для нас. [p. 39] Если в отсутствие лучшего света мы ищем то, что вероятно, мы не должны забывать о различии между предположением и доказательством; между тем, что вероятно, и тем, что определено. Вычисление Эратосфена для войны за Трою открыто для исследования; и если мы находим его противоречащим мнениям многих предшествующих писателей, которые установили более низкую дату, и противоречащим признанной продолжительности поколений в наиболее достоверных династиях, нам позволено следовать другим проводникам, которые дают нам более низкую эпоху.»
Здесь г-н Клинтон снова явно признает отсутствие доказательств и неустранимую неопределенность греческой хронологии до Олимпиады; и разумный вывод из его аргументации состоит не просто в том, что «вычисления Эратосфена были открыты для исследования» (что мало кто станет отрицать), а в том, что и Эратосфен, и Фаний высказали положительное мнение по вопросу, по которому нет достаточных доказательств, и поэтому ни один, ни другой не являются руководством, которому следует следовать. [73] Клинтон, правда, говорит о подлинных династиях до первой записанной Олимпиады, но если таковые и существуют, начиная с этого периода и заканчивая предполагаемой точкой, созвучной или предшествующей войне под Троей, – я не вижу веских причин для заметного различия, которое он проводит между хронологией до и хронологией после Олимпиады Корабуса, или для необходимости, которую он чувствует, приостанавливая свой восходящий отсчет в последнюю упомянутую эпоху, и начиная другой процесс, называемый «нисходящим отсчетом», с более высокой эпохи (предполагаемой, чтобы быть как-то установленной без какого-либо восходящего отсчета) первого патриарха, от которого исходит такая подлинная династия. [74] Геродот и Фукидид вполне могли бы, исходя из этого предположения, спросить у мистера Клинтона, почему он призвал их изменить свой метод в 776 году до н. э, и почему бы им не позволить продолжить свой «восходящий хронологический отсчет», не прерываясь, от Леонида до Даная или от Писистрата до Эллина и Девкалиона, без каких-либо изменений в точке зрения. Аутентичные династии от Олимпиады до эпохи, превышающей Троянскую войну, позволили бы нам получить хронологическое доказательство последней даты, а не сводиться (как утверждает мистер Клинтон) к «предположениям» вместо доказательств.
Весь вопрос о ценности отсчета от Олимпиады до Форонея, по сути, упирается в это: Являются ли те генеалогии, которые претендуют на то, чтобы покрыть промежуток между этими двумя периодами, подлинными и заслуживающими доверия, или нет? Мистер Клинтон, по-видимому, считает, что это не так, когда признает существенную разницу в характере свидетельств и необходимость изменения метода вычислений до и после первой записанной Олимпиады; однако в своем Предисловии он старается доказать, что они имеют историческую ценность и в основном правильно изложены: более того, что вымышленные лица, где бы они ни перемешались, могут быть обнаружены и устранены. Доказательства, на которые он опирается, таковы: 1. Надписи; 2. Ранние поэты.
1. Надпись, будучи не чем иным, как надписью на мраморе, имеет доказательную силу при тех же условиях, что и опубликованная надпись на бумаге. Если автор надписи сообщает о современном факте, который он имел возможность узнать, и если нет причин подозревать его в искажении, мы верим его утверждению: с другой стороны, если он записывает факты, относящиеся к периоду до его собственного времени, его авторитет имеет мало значения, за исключением той степени, в которой мы можем проверить и оценить его средства познания.
Поэтому, оценивая доказательную силу любой надписи, первым и самым необходимым моментом является определение ее даты. Среди всех государственных реестров и надписей, на которые ссылается г-н Клинтон, нет ни одной, которую можно было бы с уверенностью отнести к дате, предшествующей 776 г. до н. э. Квит Ифита, государственные реестры в Спарте, Коринфе и Элисе, список жриц Юноны в Аргосе – все они относятся к дате, которая совершенно не подтверждена. О. Мюллер, правда, соглашается с г-ном Клинтоном (хотя, на мой взгляд, без достаточных доказательств) в отнесении квоиты Ифита к возрасту, приписываемому этому принцу: и если мы даже согласимся с этим, у нас будет надпись, возраст которой (если принять определение г-на Клинтона о возрасте Ифита) составляет 828 г. до н. э. Но когда мистер Клинтон цитирует О. Мюллера, признающего реестры Спарты, Коринфа и Элиды, будет правильно добавить, что последний не гарантирует подлинность этих документов или возраст, в котором такие реестры начали вестись. Не стоит сомневаться, что существовали реестры царей Спарты вплоть до Гераклеи, а царей Элиды – от Оксила до Ифита; но вопрос в том, в какое время эти списки начали вестись постоянно? Это вопрос, который мы не можем решить, как и не можем принять ничем не подкрепленное предположение г-на Клинтона, который говорит нам: «Возможно, их начали писать еще в 1048 году до н. э., то есть в вероятное время дорийского завоевания». И снова он говорит нам: «В Аргосе сохранился реестр жриц Юноны, который может быть более древним, чем каталоги царей Спарты или Коринфа. Этот реестр, на основе которого Элланик составил свой труд, содержал жриц с древнейших времен до эпохи самого Элланика… Но этот каталог мог быть начат еще во время Троянской войны и даже раньше». (pp. x. xi.) Опять же, что касается надписей, процитированных Геродотом из храма исменского Аполлона в Фебах, в которых названы Амфитрион и Лаодамас, г-н Клинтон говорит: «Это были надписи из храма исменского Аполлона в Фебах. Клинтон говорит: «Они были древними во времена Геродота, что, возможно, относит их на 400 лет назад до его времени: в таком случае они могли бы приблизиться на 300 лет к Лаодамасу и на 400 лет к вероятному времени самого Кадма. Но в том, что они были древними, сомневаться не приходится» и т. д.
Время, когда Геродот увидел храм исменского Аполлона в Фебах, вряд ли могло быть раньше 450 года до н. э. Считая от этого времени до 776 года до н. э., мы имеем интервал в 326 лет: надписи, которые видел Геродот, вполне могли быть древними, не будучи ранее первой записанной Олимпиады. Мистер Клинтон, правда, говорит нам, что древние «возможно» могут быть истолкованы как 400 лет раньше Геродота. Но ни один внимательный читатель не позволит себе превратить такую голую возможность в основание для умозаключений и использовать ее, в сочетании с другими подобными возможностями, перечисленными ранее, для доказательства того, что в Греции действительно существовали надписи, датированные ранее 776 г. до н. э. Если мистер Клинтон не сможет доказать это, он не сможет извлечь никакой пользы из надписей в своей попытке обосновать реальность мифических людей или мифических событий.
Дело в том, что родословная спартанских царей, составленная Гераклидом (как было отмечено в предыдущей главе), – лишь одна из многочисленных божественных и героических генеалогий, которыми изобиловал Гель [p. 43] линский мир [75], – класс документов, которые становятся историческими свидетельствами лишь настолько высоко в восходящем ряду, насколько составляющие их имена подтверждены современной или почти современной записью. В какой период началась эта практика занесения в списки, у нас нет сведений. Однако можно сделать два замечания, которые позволят приблизительно определить время начала регистрации: Во-первых, количество имен в родословной или продолжительность прошлого времени, которое она якобы охватывает, не дает оснований предполагать какую-либо большую древность времени регистрации: Во-вторых, учитывая признанную скудость и грубость греческой письменности вплоть до 60-й Олимпиады (540 г. до н. э.), отсутствие привычки к письму, а также низкую оценку его ценности, которую дает такое положение вещей, можно предположить, что письменная регистрация семейных генеалогий началась лишь спустя долгое время после 776 г. до н. э., и обязанность доказательства ложится на того, кто утверждает, что она началась раньше. И это второе замечание еще больше подтверждается, когда мы замечаем, что нет ни одного зарегистрированного списка, кроме списка олимпийских победителей, который бы доходил до 776 года до н. э. Следующий список, который приводят О. Мюллер и г-н Клинтон, – это список карнеоников, или победителей на Карнейском фестивале, который доходит только до 676 года до н. э.