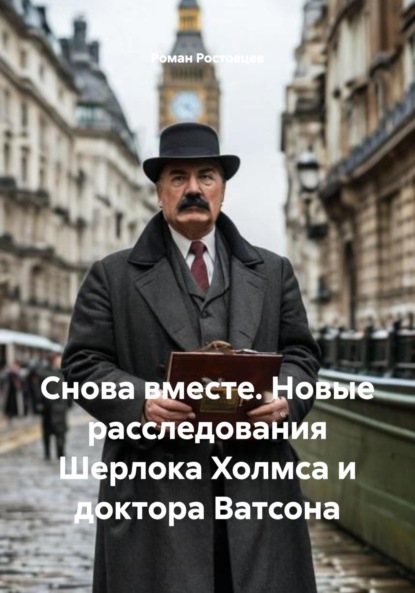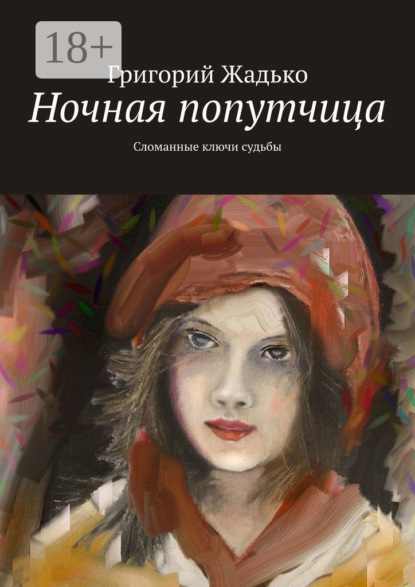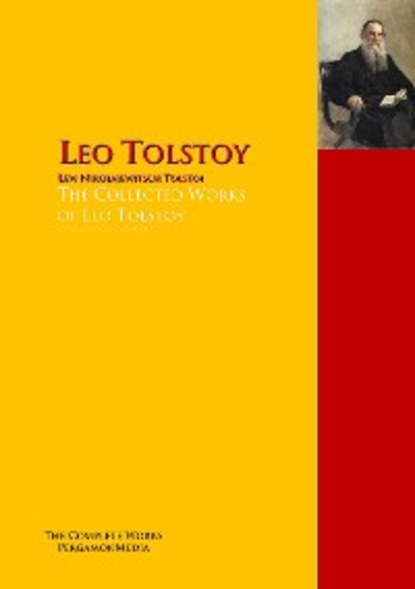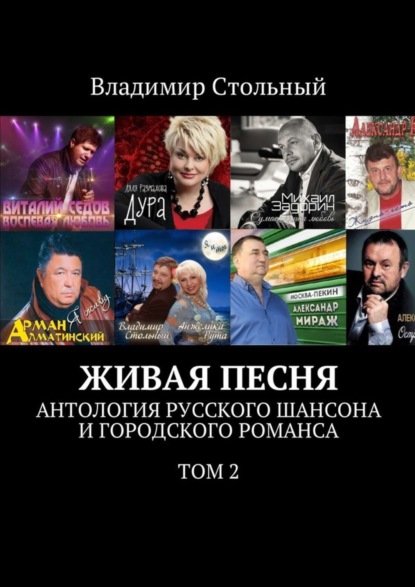- -
- 100%
- +
Глава XX. СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА И НРАВЫ, ПОКАЗАННЫЕ В ГРЕЧЕСКИХ ЛЕГЕНДАХ.
Хотя конкретные лица и события, запечатленные в легендарных поэмах Греции, нельзя считать относящимися к области реальной истории, эти поэмы, тем не менее, полны поучительности как картины жизни и нравов; и те же самые обстоятельства, которые лишают их авторов всякого доверия как историков, делают их тем более ценными как бессознательных разоблачителей современного им общества. И хотя они якобы описывают неподтвержденное прошлое, их сочетания невольно заимствуются из окружающего настоящего: Ибо в сообществах, подобных первобытным грекам, без книг, без средств для длительных путешествий, без знакомства с иностранными языками и привычками, воображение даже высокоодаренных людей, естественно, было порабощено окружающими их обстоятельствами в гораздо большей степени, чем в более поздние времена Солона или Геродота; таким образом, персонажи, которые они задумывали, и сцены, которые они описывали, по этой причине имели более сильное родовое сходство с реалиями их собственного времени и местности. Поэзия той эпохи также не была адресована писаным и критичным авторам, бдительно следящим за плагиатом, пресыщенным простыми образами и требующим новизны и необычности в каждом новом произведении. Чтобы завладеть их чувствами, достаточно было гениально и пылко изобразить более очевидные проявления человеческих приключений или страданий и идеализировать тот тип общества, как частного, так и общественного, с которым слушатели были знакомы. Даже в описании богов, где можно было бы ожидать большой степени широты и отклонений, [81] мы видим, что Гомер переносит на Олимп страсти, капризы, любовь к власти и покровительству, чередование достоинства и слабости, которые одушевляли лоно обычного греческого вождя; И эта тенденция воспроизводить по существу социальные отношения, к которым он привык, будет действовать еще сильнее, когда ему придется описывать просто человеческие характеры – вождя и его людей, воина и его товарищей, мужа, жену, отца и сына – или несовершенные зачатки судебного и административного процесса. В том, что его повествование по всем этим пунктам, даже с вымышленными персонажами и событиями, представляет собой близкое приближение к общей реальности, нет никаких оснований сомневаться. [82] Необходимость, в которой он находился, черпая из неистощимых в то время запасов личного опыта и наблюдений, является одной из причин той свежести и живости описания, в которой ему нет равных, и которая составляла нетленное очарование Илиады и Одиссеи от начала и до конца греческой литературы.
Поэтому, отказавшись от идеи хронологизации или историзации событий греческой легенды, мы можем использовать их с пользой для себя как ценные памятники того состояния общества, чувств и интеллекта, которое должно быть для нас отправной точкой истории народа. Конечно, легендарная эпоха, как и все последующие, имела свои предшествующие причины и определяющие условия; но о них мы ничего не знаем, и мы вынуждены принять ее как первичный факт, чтобы проследить за ее последующими изменениями. Представление об абсолютном начале или происхождении (как справедливо заметил Нибур) недоступно нашим способностям: мы не можем ни понять, ни проверить ничего, кроме прогресса, или развития, или упадка [83] – изменения от одного набора обстоятельств к другому, управляемого определенной комбинацией физических или моральных законов. В случае с греками легендарный век, как самый ранний из всех известных нам, должен быть принят за исходное состояние, с которого начинается этот ряд изменений. Мы должны как можно лучше изобразить его выдающиеся черты и показать – частично как он служит для подготовки, частично как он образует контраст для выделения – последующие эпохи Солона, Перикла и Демосфена.
1. Политическое состояние, которое повсеместно представляет нам греческая легенда, в своих основных чертах разительно отличается от того, которое стало повсеместно распространенным среди греков во времена Пелопоннесской войны. Историческая олигархия, как и демократия, сходились в том, что требовали определенной установленной системы правления, состоящей из трех элементов: специализированных функций, временных чиновников и конечной ответственности (в тех или иных формах) перед массой квалифицированных граждан – либо сената, либо экклесии, либо и того и другого. Конечно, между одним правительством и другим существовало много и существенных различий в отношении квалификации гражданина, атрибутов и эффективности общего собрания, допустимости власти и т. д.; и люди часто могли быть недовольны тем, как эти вопросы решались в их собственном городе. Но в сознании каждого человека некое определяющее правило или система – нечто вроде того, что в наше время называют конституцией, – были необходимы для любого правительства, имеющего право называться законным или способного вызвать в сознании грека чувство моральной обязанности подчиняться ему. Функционеры, осуществляющие власть в соответствии с ней, могли быть более или менее компетентными или популярными; но личные чувства к ним обычно терялись в привязанности или отвращении к общей системе. Если какой-нибудь энергичный человек мог наглостью или хитростью нарушить конституцию и стать постоянным правителем по своей воле и желанию, – даже если он мог управлять хорошо, он никогда не мог внушить народу чувства долга по отношению к нему. Его скипетр был незаконным с самого начала, и даже лишение его жизни, отнюдь не запрещенное тем нравственным чувством, которое осуждало пролитие крови в других случаях, считалось достойным. В языке он не мог упоминаться иначе, как под именем [84] (τύραννος, деспот), которое клеймило его как объект смешанного страха и неприязни.
Если мы вернемся от исторической к легендарной Греции, то увидим картину, обратную той, что была набросана здесь. Мы видим правительство, в котором практически нет ни схемы, ни системы, ни тем более идеи ответственности перед управляемыми, но в котором главная движущая сила повиновения со стороны народа заключается в его личных чувствах и почтении к вождю. Мы отмечаем, прежде всего, короля: далее – ограниченное число подчиненных королей или вождей; затем – массу вооруженных свободных людей, земледельцев, ремесленников, вольных разбойников и т. д.; ниже всего – свободных наемных рабочих и купленных рабов. Царь не отличается какой-либо широкой или непроходимой границей от других вождей, к каждому из которых применим титул basileus, так же как и к нему самому: его верховенство унаследовано от предков и переходит по наследству, как правило, к старшему сыну, будучи даровано семье как привилегия по благосклонности Зевса. [На войне он является вождем, превосходящим всех в личной доблести и руководящим всеми военными движениями; в мире он является общим защитником обиженных и угнетенных; он также совершает общественные молитвы и жертвоприношения, призванные добиться для всего народа благосклонности богов. Обширные владения закреплены за ним как принадлежность его высокого положения, а продукты его полей и скота частично идут на обильное, хотя и грубое гостеприимство. Кроме того, он часто получает подарки, чтобы отвратить вражду, примирить его благосклонность [86] или откупиться от его поборов; а когда у врага отбирают добычу, для него, помимо общей раздачи, резервируется большая доля, включающая, возможно, самую привлекательную пленницу [87].
[p. 63] Таково положение царя в героические времена Греции – единственного человека (если не считать глашатаев и жрецов, каждый из которых был как особым, так и подчиненным), который предстает перед нами как облеченный какой-либо индивидуальной властью, – человека, от которого зависят все исполнительные функции, тогда еще немногочисленные, которых требует общество, либо выполняются, либо направляются. Его личное превосходство, проистекающее из божественного лика, дарованного как ему самому, так и его расе, и, вероятно, из аккредитованного божественного происхождения, является главной особенностью картины. Народ прислушивается к его голосу, принимает его предложения и подчиняется его приказам: не только сопротивление, но даже критика его действий, как правило, выставляется в одиозном свете, и о ней, действительно, никогда не слышно, кроме как от одного или нескольких подчиненных принцев. Чтобы поддерживать и оправдывать подобные чувства в общественном сознании, король должен сам обладать различными достижениями, телесными и умственными, причем в высшей степени. [88] Он должен быть храбр в поле, мудр в совете и красноречив на агоре; он должен быть наделен телесной силой и активностью, превосходящей других людей, и должен быть искусен не только в использовании своего оружия, но и в тех атлетических упражнениях, которые с удовольствием наблюдает толпа. Даже самые обычные виды ручного труда дополняют его характер, как, например, ремесло плотника или корабельщика, прямая борозда пахаря или неутомимое упорство косаря без отдыха и передышки в течение всего длинного дня»[89]. 64] Условиями добровольного повиновения в греческие героические времена являются родовое происхождение с личной силой и превосходством как душевным, так и телесным в вожде, соединенное с благосклонностью богов: старый вождь, такой как Пелей и Лаэрт, не может сохранить свое положение. [90] Но, с другой стороны, при наличии этих элементов силы допускается большая доля насилия, каприза и хитрости: этический суд не является точным при рассмотрении поведения людей, наделенных столь высокими полномочиями. Как и в случае с богами, общие эпитеты «добрый», «справедливый» и т. д. применяются к ним как эвфемизмы, возникающие из покорности и страха, которые не только не предполагаются, но и зачастую прямо опровергаются их конкретными поступками. Эти слова означают [91] человека родовитого, богатого, влиятельного и смелого, чья рука сильна, чтобы разрушить или защитить, каков бы ни был поворот его нравственных чувств; в то время как противоположный эпитет, плохой, обозначает бедных, ничтожных и слабых; от их нравов, будь они хоть сколько-нибудь добродетельными, обществу не приходится ни надеяться, ни бояться.
Аристотель в своей общей теории правления [92] утверждает, что самые ранние источники послушания и власти среди людей – личные, проявляющиеся наиболее полно в типе отцовского верховенства; и что поэтому царское правление, как наиболее соответствующее этой стадии общественных настроений, стало, вероятно, первым, установленным повсюду. И в самом деле, в его время оно все еще продолжало преобладать среди неэллинских народов, непосредственно окружавших его; хотя финикийские города и Карфаген, наиболее цивилизованное из неэллинских государств, были республиками. Тем не менее, чувства к царской власти у современных ему греков настолько изменились, что ему трудно проникнуться добровольным послушанием, которое его предки оказывали своим ранним героическим вождям. Он не может объяснить себе, как один человек мог настолько превосходить окружающих его товарищей, чтобы поддерживать такое огромное личное превосходство: он подозревает, что в таких маленьких общинах большие заслуги были очень редки, так что у вождя было мало конкурентов. [93] Такие замечания ярко иллюстрируют революцию, которую претерпело греческое сознание за предыдущие столетия в отношении внутренних оснований политического подчинения. Но связующее звено между гомеровской и республиканской схемами правления следует искать в двух дополнениях к гомеровской царской власти, о которых сейчас пойдет речь, – буле, или совете вождей, и агоре, или общем собрании свободных людей.
Эти два собрания, созываемые более или менее часто и переплетенные с самыми ранними обычаями первобытных греческих общин, представлены в памятниках легендарной эпохи скорее как возможности для совета с царем и средства для оглашения его намерений народу, чем как ограничения его власти. Несомненно, на практике они должны были приводить как к последнему, так и к первому результату; но это не тот свет, в котором их описывают гомеровские поэмы. Вожди, цари, князья или геронты – ибо одно и то же слово в греческом языке обозначает и старика, и человека, занимающего видное положение, – составляют совет, [94] в котором, согласно изображениям в «Илиаде», единодушно преобладают решения Агамемнона с одной стороны и Гектора – с другой. Суровость и даже презрение, с которым Гектор относится к уважительному возражению своего древнего товарища Полидамаса, – унылый тон и сознание неполноценности последнего и единодушное согласие, которое получает первый, даже когда он совершенно не прав, – все это ясно представлено в поэме: [95] в то время как в греческом лагере мы видим Нестора, который в самой покорной и деликатной манере подает свои советы Агамемнону, чтобы тот принял или отверг их, как решит «царь людей». [Совет – это чисто совещательный орган, собранный не для того, чтобы императивно пресекать злонамеренные решения царя, а исключительно для его информирования и руководства. Сам он является председательствующим (boulephŏrus, или) членом [97] совета; остальные, как в совокупности, так и по отдельности, являются его подчиненными.
Из совета мы переходим на агору: согласно принятому обычаю, царь, обсудив свои намерения с первым, переходит к объявлению их народу. Глашатаи заставляют толпу сесть в порядке [98] и [p. 67] принуждают к молчанию: любому из вождей или советников – но, как кажется, никому другому [99] – разрешается обратиться к ним: царь сначала оглашает свои намерения, которые затем могут быть прокомментированы другими. Но на гомеровской агоре никогда не происходит ни разделения голосов на утвердительные и отрицательные, ни принятия какой-либо формальной резолюции. Ничтожность позитивной функции поражает нас в агоре еще больше, чем в совете. Это собрание для разговоров, общения и обсуждения, в определенной степени, вождями, в присутствии народа как слушателей и сочувствующих, – часто для красноречия, а иногда для ссор, – но на этом его мнимые цели заканчиваются.
Во второй книге «Одиссеи» юноша Телемах по наущению Афоньки собирает агору в Итаке не для того, чтобы внести какое-либо предложение, а для того, чтобы официально и публично уведомить женихов о необходимости прекратить их беззаконное вторжение и грабеж его имущества и освободить себя перед богами и людьми от всех обязательств по отношению к ним, если они откажутся подчиниться. Ибо расправа над женихами в торжественной обстановке праздничного зала и пира (что и составляет катастрофу «Одиссеи») была делом, затрагивающим многое, что шокировало греческие чувства, [100] и потому должна была предваряться такими достаточными формальностями, которые оставили бы и самих провинившихся без тени оправдания, и их оставшихся в живых родственников без всяких претензий на обычное удовлетворение. Для этой особой цели Телемах велит глашатаям созвать агору, но больше всего удивляет то, что со времени отъезда самого Одиссея, а это двадцать лет, ни одна агора не созывалась и не проводилась. «С тех пор как Одиссей сошел на корабль, среди нас не было ни одного агора или заседания (говорит седоголовый Эгипий, открывающий заседание), и кто же теперь собрал нас? Какой человек, молодой или старый, почувствовал такую сильную необходимость? Получил ли он известие от наших отсутствующих воинов, или у него есть другие общественные новости, которые он должен сообщить? Он наш добрый друг, раз так поступил: каковы бы ни были его замыслы, я молю Зевса даровать ему успех»[101]. Телемах, отвечая на этот призыв, сразу же сообщает собравшимся итакийцам, что у него нет никаких государственных новостей, а созвал он их по своим личным нуждам. Далее он патетически излагает злодеяния женихов, призывает их лично отказаться, а народ – сдержать их, и в заключение торжественно предупреждает их, что, будучи отныне свободным от всяких обязательств по отношению к ним, он призовет на помощь Зевса, чтобы «они были убиты в недрах его собственного дома, не навлекая на него никакого последующего наказания» [102].
Разумеется, мы не должны воспринимать гомеровское описание как нечто большее, чем идеал, приближенный к реальной действительности. Но, если допустить все, что может потребоваться для такого ограничения, оно представляет агору скорее как особое средство гласности и общения [103] между царем и народом, чем как включающее в себя какую-либо идею ответственности со стороны первого или сдерживающей силы со стороны второго, какие бы последствия косвенно из этого ни вытекали. Первобытное греческое правительство по сути своей монархическое, опирающееся на личные чувства и божественное право: памятная сентенция из «Илиады» подтверждается всем, что мы слышим о реальной практике: «Правитель многих – это нехорошо: пусть у нас будет только один правитель, один царь, тот, кому Зевс дал скипетр и опекунские санкции» [104]. Вторая книга «Илиады», полная красоты и живости, не только подтверждает наше представление о пассивном, принимающем и слушающем характере агоры, но даже представляет отталкивающую картину деградации народных масс перед вождями. Агамемнон созывает агору для того, чтобы немедленно вооружить греческое войско, под полным впечатлением, что боги наконец-то решили немедленно увенчать его оружие полной победой. Такое впечатление было создано специальным визитом Онейруса (бога снов), посланного Зевсом во время сна, что, по сути, является намеренным обманом со стороны Зевса, хотя Агамемнон и не подозревает о его коварном характере. Именно в этот момент, когда, как можно предположить, он более чем обычно стремится вывести свою армию на поле боя и вырвать приз, его охватывает безотчетная фантазия, и вместо того, чтобы предложить войскам сделать то, что он действительно хочет, и подбодрить их дух для этого последнего усилия, он принимает прямо противоположное решение: он испытывает их мужество, утверждая, что осада стала отчаянной и что нет другого выбора, кроме как отправиться на корабль и бежать. Объявив Нестору и Одиссею на предварительном совете о своем намерении применить этот странный язык, он в то же время говорит им, что рассчитывает на их противодействие и противодействие его воздействию на народ. [105] Вскоре собирается агора, и царь людей произносит речь, полную тревоги и отчаяния, заканчивая ее ясным призывом ко всем присутствующим немедленно подняться на борт и вернуться домой. Немедленно все войско, как вожди, так и люди, распадается и приступает к исполнению его приказа: каждый бросается поднимать свой корабль на плаву, кроме Одиссея, который смотрит на это в скорбном молчании и изумлении. Войско быстро отправилось бы домой, если бы богини Хера и Афина не побудили Одиссея к немедленному вмешательству. Он спешит среди рассеивающейся толпы и отвлекает ее от цели отступления: к вождям он обращается с льстивыми словами, пытаясь пристыдить их мягкими увещеваниями; народ же он посещает суровыми выговорами и ударами своего скипетра, [106] тем самым загоняя их обратно на свои места в агоре.
Среди недовольной толпы, которую он невольно возвращает назад, дольше и громче всех звучит голос Терситека – человека безобразного, уродливого и неказистого, но бегло говорящего, особенно сурово и беззлобно порицающего вождей – Агамемнона, Ахилла и Одиссея. По этому случаю он обращается к народу с речью, в которой порицает Агамемнона за корыстные и жадные поборы вообще, но особенно за его недавнее жестокое обращение с Ахиллом, – и, кроме того, пытается побудить его упорствовать в своем намерении уйти. В ответ Одиссей не только резко упрекает Терситеса за дерзость в оскорблении главнокомандующего, но и угрожает, что, если подобное поведение повторится, он разденет его догола и выпорет из собрания позорными ударами; в подтверждение этого он сразу же наносит ему сильный удар шипованным скипетром, оставляя болезненный след в виде кровавой борозды по всей спине. Терситес, испуганный и покоренный, садится и плачет, а окружающая толпа высмеивает его и горячо одобряет Одиссея за то, что он силой заставил погромщика замолчать [107].
Затем Одиссей и Нестор обращаются к агоре, сочувствуя Агамемнону за позор, которому его подвергнет отступление греков, и настойчиво убеждая всех присутствующих в необходимости упорствовать, пока осада не завершится успешно. Ни один из них не осуждает Агамемнона ни за его поведение по отношению к Ахиллу, ни за его детскую выходку, направленную на испытание нравов армии [108].
Не может быть более четкого указания, чем это описание, столь наглядное в оригинальной поэме, на истинный характер гомеровской агоры. Народ, составляющий ее, внимает и соглашается, не часто колеблется и никогда не отказывается [109] от вождя. Судьба, которая ожидает самонадеянного критика, даже если его яростные упреки в значительной степени обоснованы, ясно показана в обращении с Терситеком; а о непопулярности такого персонажа свидетельствует даже большее, чем наказание Одиссея, чрезмерное старание Гомера нагромоздить на него отталкивающие личные уродства; он хромой, лысый, с кривой спиной, неправильно сформированной головой и косоглазым зрением.
Но мы перестаем удивляться покорному характеру агоры, когда читаем действия Одиссея по отношению к самому народу; его изящные слова и лесть, обращенные к вождям, и его презрительные упреки и ручное насилие по отношению к простым людям, в тот момент, когда и те и другие делали в точности одно и то же, – исполняя явную просьбу Агамемнона, которому Одиссей не делает ни единого замечания. Эта сцена, вызвавшая сильное недовольство демократов исторических Афин, [110] служит доказательством того, что чувство личного достоинства, о котором философские обозреватели Греции – Геродот, Ксенофонт, Гиппократ и Аристотель – хвастались, что оно отличает свободного греческого гражданина от рабского азиата, во времена Гомера было еще не развито. [Древний эпос обычно так наполнен личными приключениями вождей, а народ так постоянно изображается простым придатком к ним, что мы редко получаем представление об отношении к одним отдельно от других, такое, какое дает эта памятная гомеровская агора.
Остается еще одна точка зрения, с которой мы должны рассматривать агору первобытной Греции, – как сцену, на которой вершилось правосудие. О царе говорят как о Зевсе, великом судье общества: он получил от Зевса скипетр, а вместе с ним и полномочия повелевать и наказывать: народ подчиняется этим повелениям и налагает эти санкции, подчиняясь ему, обогащая его в то же время выгодными подарками и платежами. [112] Иногда царь отдельно, иногда цари, вожди или геронты во множественном числе, названы как решающие споры и присуждающие удовлетворение жалобщикам; всегда, однако, публично, посреди собравшейся агоры. [113] [p. 73] В одном из отделений щита Ахилла описаны детали судебной сцены. На агоре, заполненной возбужденной толпой, двое мужчин спорят о штрафе за смерть убитого, один утверждает, другой отрицает, что штраф уже уплачен, и оба требуют дознания. Геронты расположились на каменных сиденьях [114] в священном круге, перед ними лежат два таланта золота, которые должны быть вручены тому из спорящих, кто изложит свое дело с удовлетворением. Глашатаи со своими скипетрами, подавляя горячие симпатии толпы в пользу той или иной стороны, обеспечивают поочередное слушание для обоих»[115]. Эта интересная картина полностью гармонирует с кратким намеком Гесиода на судебный процесс – несомненно, реальный – между ним и его братом Персеем. Братья поспорили об отцовском наследстве, и дело было передано на рассмотрение вождям на агоре; но Персес подкупил их и добился несправедливого вердикта для всех. [116] Так, по крайней мере, утверждает Гесиод в горечи своего сердца, убедительно увещевая брата не тратить драгоценное время, необходимое для необходимых трудов, на неприбыльное занятие свидетельства и пособничества тяжбам на агоре, – для чего (добавляет он) ни один человек не имеет надлежащего досуга, если его пропитание на год вперед надежно хранится в его амбарах. [Он не раз повторяет свои жалобы на кривые и порочные суды, в которых обычно были виновны цари; он говорит о злоупотреблении правосудием как о вопиющем зле своего времени и предсказывает, а также призывает месть Зевса, чтобы подавить его. И Гомер приписывает огромную силу осенних бурь гневу Зевса на тех судей, которые позорят агору своими нечестивыми приговорами [118].
Хотя в любом обществе чувства людей, собранных во множестве, несомненно, привлекают определенное внимание, мы видим, что агора в судебной сфере в большей степени, чем в политической, служит лишь целям публичности. Именно царь является главным личным движителем греческого героического общества. [119] На земле он является эквивалентом Зевса в агоре богов: верховный бог Олимпа имеет привычку осуществлять свое правление с частой оглаской, выслушивать некоторые несогласные мнения и позволять себе время от времени поддаваться на уговоры Афродиты или принуждать к соблюдению требований Геры: но его решение в конце концов является окончательным, подчиняясь только властному вмешательству Mœræ, или Судьбы. [120] И общество богов, и различные общества людей, согласно представлениям греческой легенды, осуществляются под личным правлением законного государя, который не получает свой титул от специального назначения своих подданных, хотя и правит с их полного согласия. На самом деле, греческая легенда не представляет нам ничего другого, кроме этих великих личностей. Род, или нация, как бы вливается в князя: эпонимы, в особенности, не просто князья, а отцы и представительные единства, каждый из которых является эквивалентом той большей или меньшей совокупности, которой он дает имя.