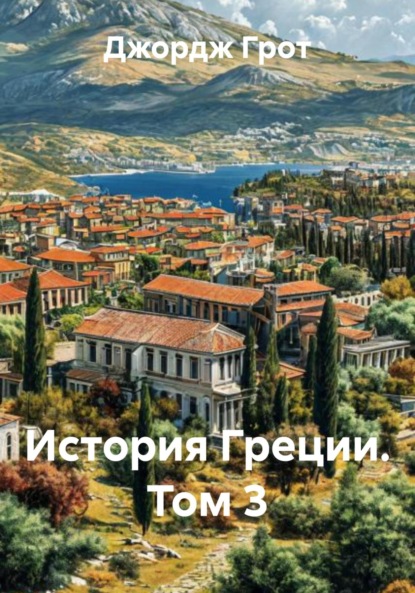- -
- 100%
- +
Глава XXIV.
АКАРНАНЫ. – ЭПИРОТЫ.
Акарнаны. – Их общественное и политическое состояние. – Эпироты – включают разные племена, с малой или отсутствующей этнической связью. – Некоторые из этих племён этнически связаны с племенами Южной Италии; – другие – с македонянами – невозможно провести границы. – Территория разделена на деревни – крупных городов нет. – Побережье Эпира не способствовало греческой колонизации. – Некоторые эпирские племена управлялись царями, другие – нет.
Часть II.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГРЕЦИИ.
Глава IX.
КОРИНФ, СИКИОН И МЕГАРЫ. – ЭПОХА ГРЕЧЕСКИХ ТИРАНОВ.
Предыдущий том довел историю Спарты до периода, отмеченного правлением Писистрата в Афинах; к этому времени она достигла максимального расширения своей территории, была общепризнанно самым могущественным государством Греции и пользовалась соответствующим уважением остальных эллинов. Теперь я перехожу к рассмотрению трех дорийских городов на Истме и вблизи него – Коринфа, Сикиона и Мегар, какими они существовали в тот же период.
Даже среди скудных дошедших до нас сведений мы находим свидетельства значительной морской активности и торговли коринфян уже в VIII веке до н. э. Основание Керкиры и Сиракуз в 11-ю Олимпиаду, или в 734 году до н. э. (о чем я подробнее расскажу в связи с греческой колонизацией в целом), экспедициями из Коринфа служит хорошим доказательством того, что они умели извлекать выгоду из своего выгодного положения, связывавшего их с морем по обе стороны Пелопоннеса. Фукидид, [1] отмечая их как главных освободителей моря от пиратов в древние времена, также [p. 2] сообщает нам, что первое значительное усовершенствование в кораблестроении – создание триремы, или военного корабля с полной палубой и тройными рядами гребцов, – было плодом коринфской изобретательности. В 703 году до н. э. коринфянин Амейнокл построил четыре триремы для самосцев – первые, которые когда-либо были у этих островитян. Упоминание этого факта свидетельствует как о важности, придававшейся новому изобретению, так и о скромных масштабах военно-морских сил в те ранние времена. И не менее значимым доказательством морской мощи Коринфа в VII веке до н. э. является тот факт, что первое известное Фукидиду морское сражение произошло между коринфянами и керкирянами в 664 году до н. э. [2]
Как уже упоминалось в предыдущем томе, линия Гераклидских царей в Коринфе постепенно угасает, превращаясь в олигархию, именуемую Бакхиадами, при которых начинаются наши первые исторические сведения о городе. Эти лица считались потомками Геракла и составляли правящую касту в городе, обычно вступая в браки между собой и выбирая из своей среды ежегодного притана, или правителя, для управления делами. Об их внутреннем управлении у нас нет сведений, за исключением рассказа об Архии, основателе Сиракуз, [3] одном из их числа, который настолько навлек на себя ненависть актом жестокого насилия, закончившегося смертью прекрасного юноши Актеона, что был вынужден покинуть родину. То, что такой человек был поставлен на высокий пост ойкиста колонии Сиракузы, не дает благоприятного представления о Бакхиадской олигархии. Впрочем, мы не знаем, на каком первоисточнике основан этот рассказ и можно ли быть уверенным в его точности. Но Коринф под их управлением уже был мощным торговым и морским городом, как уже упоминалось.
Мегары, последнее дорийское государство в этом направлении на восток, граничащее с Аттикой в том месте, где горы Керата спускаются к Элевсину и Фриасийской равнине, утверждают, что были первоначально заселены дорийцами из Коринфа и долгое время оставались зависимыми от этого города. Далее говорится, что сначала это было лишь одно из пяти отдельных поселений – Мегары, Герая, Пирая, Киносура, Триподиск, – населенных родственными племенами и обычно находившихся в дружеских отношениях, но иногда раздираемых ссорами, во время которых они вели войны с такой степенью снисходительности и рыцарской уверенности, что опровергает поговорку о кровожадности вражды между сородичами. Оба этих утверждения передаются нам (мы не знаем из какого первоисточника) как объяснение некоторых распространенных выражений. [4] Автор последнего не мог согласиться с автором первого в том, что коринфяне были властителями Мегариды, поскольку он изображает их как подстрекателей войн между этими пятью поселениями с целью завладения этой территорией. Какими бы ни были истинные факты относительно этого предполагаемого раннего подчинения Мегар, мы знаем, [5] что в историческую эпоху, уже к 14-й Олимпиаде, это был независимый дорийский город, [p. 4] сохранявший целостность своей территории под предводительством Орсиппа, знаменитого олимпийского бегуна, против некоторых могущественных врагов, вероятно, коринфян. Он был немаловажным, владея территорией, простиравшейся через гору Геранию до Коринфского залива, где находился укрепленный город и порт Пеги, принадлежавший мегарцам; он был метрополией ранних и отдаленных колоний и в состоянии во времена Солона вести затяжной конфликт с афинянами за обладание Саламином, в котором, хотя последние в конце концов одержали победу, это не обошлось без периода неудач и отчаяния.
О ранней истории Сикиона, от периода его заселения дорийцами до VII века до н. э., мы ничего не знаем. Наши первые сведения о нем касаются установления тирании Орфагора около 680–670 годов до н. э. И стоит отметить, что все три вышеупомянутых города – Коринф, Сикион и Мегары – в течение этого же века претерпели аналогичную смену правления. В каждом из них утвердился тиран: Орфагор в Сикионе, Кипсел в Коринфе, Феаген в Мегарах.
К сожалению, у нас слишком мало свидетельств о состоянии дел, которым предшествовала и которое вызвала эта смена правительства, чтобы можно было полностью оценить ее значение. Но особенно привлекает наше внимание то, что аналогичное явление, по-видимому, происходило одновременно в большом числе городов – континентальных, островных и колониальных – во многих частях греческого мира.
Период между 650 и 500 гг. до н.э. стал временем возвышения и падения многих тиранов и тиранических династий, каждая – в своем отдельном городе. В последующий промежуток между 500 и 350 гг. до н.э. новые тираны, хотя и появлялись иногда, становились реже; политическая борьба принимает иной оборот, и вопрос ставится прямо и открыто между большинством и меньшинством – народом и олигархией.
Но в более поздние времена, последовавшие за битвой при Херонее, по мере того как Греция, утрачивая как гражданский, так и воинский дух, вынуждена прибегать к постоянному использованию наемных войск и унижена всесильным вмешательством иностранцев, – тиран с его постоянной иностранной телохранительной стражей вновь становится характерной чертой эпохи. Эта тенденция была частично подавлена, но так и не полностью преодолена Аратом и Ахейским союзом в III веке до н.э.
Было бы поучительно, если бы у нас сохранились достоверные записи о этих сменах правительств в некоторых из наиболее значительных греческих городов; но за отсутствием таких свидетельств мы можем лишь собрать краткие высказывания Аристотеля и других авторов о причинах, их вызвавших. Поскольку подобная смена власти была общей, примерно в одно и то же время, для городов, весьма различающихся по местоположению, составу населения, вкусам, привычкам и богатству, она отчасти должна была зависеть от некоторых общих причин, которые могут быть указаны и объяснены.
В предыдущем томе я попытался прояснить героическое правление в Греции, насколько оно может быть познано из эпических поэм, – правление, основанное (если можно употребить современную терминологию) на божественном праве в противоположность народному суверенитету, но требовавшее, как существенное условие, чтобы царь обладал силой, как телесной, так и душевной, достойной высокого рода, к которому он принадлежал. [6] В этом правлении вся власть, пронизывающая общество, сосредоточена в царе; но в важных случаях она осуществляется через формы публичности: он совещается и даже дискутирует с советом вождей или старейшин, – затем сообщает о результатах этих совещаний собравшейся агоре, – которая слушает и одобряет, а может быть, слушает и ропщет, но не имеет права выбора или отвержения.
Описывая Ликургову систему, я отметил, что древние примитивные Ретры, или хартии соглашения, указывали на существование тех же элементов: царь сверхчеловеческого происхождения (в данном случае два координированных царя), – сенат из двадцати восьми старейшин, помимо царей, заседавших в нём, – и экклесия, или народное собрание граждан, созывавшееся для одобрения или отклонения предложений, представленных на их рассмотрение, с весьма ограниченной или вовсе отсутствующей свободой обсуждения.
Таким образом, элементы героического правления в Греции оказываются в основе теми же, что и в примитивной Ликурговой конституции: в обоих случаях преобладающая сила принадлежит царям, – а функции сената, и тем более народного собрания, остаются сравнительно узкими и ограниченными; в обоих случаях царская власть поддерживается определённым религиозным чувством, которое стремилось исключить соперничество и обеспечить подчинение народа до известной степени, несмотря на проступки или недостатки правящего лица.
Среди главных эпиротских племён этот строй сохранялся вплоть до III века до н. э. [7], хотя некоторые из них уже вышли из него и имели обыкновение ежегодно избирать правителя из рода, к которому принадлежал царь.
Исходя из этих черт, общих для героического правления Греции и первоначальной Ликурговой системы, мы видим, что в греческих городах вообще царь заменяется олигархией, состоящей из ограниченного числа семейств, – тогда как в Спарте царская власть, хотя и сильно урезанная, никогда не упраздняется. И различный ход событий в Спарте отчасти может быть объяснён.
Так случилось, что в течение пятисот лет ни одна из двух координированных линий спартанских царей не оставалась без мужских потомков, так что чувство божественного права, на котором основывалось их превосходство, всегда текло непрерывным руслом. Это чувство никогда полностью не угасало в упорном сознании Спарты, но оно ослабело настолько, что вызвало потребность в гарантиях против злоупотреблений.
Если бы сенат был более многочисленным органом, состоящим из нескольких знатных семейств и включающим людей всех возрастов, он, возможно, расширил бы свои полномочия настолько, чтобы поглотить царские. Но совет двадцати восьми глубоких стариков, избираемых без разбора из всех спартанских семей, по сути был лишь вспомогательной и второстепенной силой. Он был недостаточен даже как ограничитель царя, – и ещё менее способен стать его соперником; более того, он даже косвенно поддерживал царя, предотвращая формирование какого-либо иного привилегированного сословия, достаточно могущественного, чтобы превзойти его власть.
Эта недостаточность сената стала одной из причин создания ежегодно обновляемого Совета Пяти, называемого эфорами; первоначально – защитного института, подобного римским трибунам, предназначенного для сдерживания злоупотреблений царской власти, но впоследствии разросшегося в верховный и [стр. 7] безотчётный Исполнительный Директорат.
Пользуясь бесконечными раздорами между двумя координированными царями, эфоры постепенно урезывали их власть со всех сторон, ограничивали определёнными специальными функциями и даже сделали их подотчётными и подверженными наказанию, но никогда не стремились упразднить их достоинство.
То, что царская власть потеряла в объёме (по справедливому замечанию царя Феопомпа) [8], она приобрела в долговечности: потомки близнецов Эврисфена и Прокла продолжали владеть своим двойным скипетром с древнейших исторических времён вплоть до революций Агиса Третьего и Клеомена Третьего, – оставаясь военачальниками, становясь всё богаче и богаче, почитаемые и влиятельные в государстве, хотя директорат эфоров стоял выше них.
А эфоры со временем стали столь же деспотичны во внутренних делах, какими когда-то могли быть цари; ибо спартанский ум, глубоко проникнутый чувствами повеления и повиновения, оставался сравнительно невосприимчив к идеям контроля и ответственности и даже враждебен к открытому обсуждению и критике государственных мер или должностных лиц, которые эти идеи подразумевают.
Не следует забывать, что спартанский политический строй был упрощён по своему характеру и облегчён в функционировании всеобъемлющим действием Ликурговой дисциплины, с её суровым равным давлением на богатых и бедных, что устраняло многие причины, в других местах порождавшие мятежи, – приучая самых гордых и строптивых граждан к жизни беспрекословного повиновения, – удовлетворяя существовавший спрос на систему и порядок, – делая личные привычки спартанцев гораздо более равными, чем даже в демократических Афинах; но в то же время способствуя презрению к болтунам и отвращению к методичной и продолжительной речи, что само по себе исключало всякое регулярное вмешательство гражданской массы как в политические, так и в судебные дела.
Вот каково было положение вещей в Спарте; но в остальной Греции первобытное героическое правление видоизменилось совершенно иным образом: народ гораздо решительнее перерос то чувство божественного права и личного почтения, которое изначально давало власть царю. Со стороны [стр. 8] народа, и еще более со стороны подчиненных вождей, прекратилась добровольная покорность, а вместе с ней исчезла и героическая царская власть. Требовалось нечто вроде системы или конституции.
Главной причиной этого повсеместного исчезновения царской власти в политическом развитии Эллады, несомненно, была малочисленность и компактное расселение каждого отдельного эллинского общества. Единый, пожизненный и никому не подотчетный правитель вовсе не был необходим для поддержания единства. В современной Европе, в большинстве случаев, различные политические общества, возникшие после распада Римской империи, охватывали значительное население и обширную территорию, и монархическая форма представлялась единственным известным средством объединения частей, единственным видимым и внушительным символом национальной идентичности. Как воинственный характер тевтонских завоевателей, так и традиции раздробленной ими Римской империи способствовали установлению монархического правления, упразднение которого считалось бы – и действительно было бы – равносильно распаду нации, поскольку поддержание коллективного единства через общие собрания было столь обременительно, что даже короли тщетно пытались навязать его силой, а представительное правление тогда еще не было известно.
История Средних веков, хотя и демонстрирует постоянное сопротивление со стороны могущественных подданных, частые свержения отдельных королей и occasional смены династий, содержит мало примеров попыток сохранить крупное политическое объединение без царя, будь то наследственного или выборного. Еще в конце XVIII века, в период формирования федеральной конституции Соединенных Штатов Америки, многие мыслители считали [9] невозможным применение любой иной системы, кроме монархической, к территории с большим размером и населением, чтобы сочетать единство целого [стр. 9] с равными правами и гарантиями для каждой из частей. И это, возможно, действительно было бы невозможно среди любого неразвитого народа с сильными местными особенностями, затрудненными средствами коммуникации и отсутствием привычки к представительному правлению.
Таким образом, во всех крупных нациях средневековой и современной Европы, за немногими исключениями, преобладающие настроения были благоприятны для монархии; но там, где отдельный город, район или группа деревень – будь то на равнинах Ломбардии или в горах Швейцарии – обретали независимость, там, где малая часть отделялась от целого, возникали противоположные настроения, и естественной тенденцией становилось установление той или иной формы республиканского правления; [10] из которого, как и в Греции, часто рождался деспот, но всегда вследствие какого-то насильственного и обманного смешения.
Феодальная система, сложившаяся в беспорядочном состоянии Европы между XI и XIII веками, всегда предполагала постоянного сюзерена, наделенного обширными правами смешанного личного и собственнического характера над своими [стр. 10] вассалами, хотя и связанного определенными обязательствами перед ними. Непосредственные вассалы короля имели своих подчиненных вассалов, с которыми они состояли в таких же отношениях; и в этой иерархии [11] власти, собственности и территории, слитых воедино, права главы – будь то король, герцог или барон – всегда воспринимались как нечто отдельное, не предоставленное изначально даром и не отменяемое по воле тех, над кем они осуществлялись.
Этот взгляд на сущность политической власти был точкой, в которой сходились три великих элемента современного европейского общества – тевтонский, римский и христианский, хотя каждый по-своему и с разными видоизменениями; и результатом стало множество попыток подданных достичь компромисса со своим правителем без какой-либо идеи заменить его делегированной исполнительной властью.
В отдельных точках этих феодальных монархий постепенно выросли города с сосредоточенным населением, среди которых наблюдалось примечательное сочетание республиканских настроений, требовавших коллективного и ответственного управления в местных делах, с необходимостью единства и подчинения более крупному монархическому целому. Так возникла новая сила, способствовавшая как сохранению формы, так и предопределению хода королевского правления. [12]
И на практике оказалось возможным достичь этой последней цели – сочетать монархическое правление с устойчивостью управления, равным законом, беспристрастно исполняемым, защитой личности и собственности, а также свободой обсуждения в рамках представительных форм – в такой степени, которую мудрейший древний грек счел бы безнадежной. [13]
Такое улучшение в практическом функционировании этого вида правления (всегда в сравнении с царями древности – Сирии, Египта, Иудеи, греческих городов и Рима), вместе с усилением влияния установленных порядков и большей устойчивостью всех институтов и верований, однажды утвердившихся на обширных территориях и среди народов, привело к тому, что монархические настроения оставались преобладающими в европейском сознании – хотя и не без энергичных occasional возражений – на протяжении возросших знаний и расширенного политического опыта последних двух столетий.
Важно показать, что монархические институты и монархические тенденции, распространенные в средневековой и современной Европе, были порождены и поддерживались причинами, свойственными именно этим обществам, тогда как в эллинских обществах такие причины отсутствовали, – чтобы мы могли подходить к эллинским явлениям с правильным настроем и беспристрастно оценивать всеобщее среди греков отношение к идее царя. Первоначальное чувство, питаемое к героическому царю, исчезло [стр. 12], превратившись сначала в равнодушие, а затем – после опыта с тиранами – в решительную антипатию.
Для такого историка, как мистер Митфорд, проникнутого английскими представлениями о государственном управлении, это антимонархическое чувство кажется чем-то вроде безумия, а греческие общины – сумасшедшими без надзирателя: величайшим благодетелем для них является наследственный царь, который завоевывает их извне, а вторым по значимости – домашний тиран, захватывающий акрополь и подчиняющий своих сограждан силой. Невозможно найти более верный способ исказить и извратить греческие явления, чем рассматривать их в таком духе, который противоречит как принципам благоразумия, так и морали, общепринятым в древнем мире. Ненависть к царям, существовавшая среди греков, – каким бы ни казалось подобное чувство сегодня, – была выдающейся добродетелью, проистекающей непосредственно из самой благородной и мудрой части их натуры: она была следствием их глубокого убеждения в необходимости всеобщего правового ограничения – прямым выражением той упорядоченной социальности, которая требовала контроля над личными страстями от каждого без исключения, и особенно от того, кому доверялась власть. Представление, которое греки формировали о безответственном правителе или царе, который не может ошибаться, можно выразить многозначительными словами Геродота: [14]
«Он ниспровергает обычаи страны, насилует женщин, казнит людей без суда».
Никакое другое представление о вероятных тенденциях царской власти не оправдывалось ни общим знанием человеческой природы, ни политическим опытом, накопленным со времен Солона: к такому характеру нельзя было испытывать ничего, кроме отвращения, и только человек бесчестных амбиций мог стремиться облечь себя такой властью.
Наш более обширный политический опыт научил нас смягчать это мнение, показывая, что при условиях монархии в лучших правительствах современной Европы зверства, описанные Геродотом, не происходят, – и что возможно, посредством представительных конституций, действующих под влиянием определенных нравов, обычаев и исторической памяти, предотвратить многие из [стр. 13] зол, которые могут проистекать из провозглашения обязанности беспрекословного повиновения наследственному и безответственному царю, которого нельзя сменить без внеконституционного насилия. Но такой более широкий взгляд не был доступен Аристотелю, самому мудрому и осторожному из древних теоретиков; да и если бы был доступен, он не смог бы с уверенностью применить его уроки к управлениям отдельных городов Греции. Теория конституционного царя, особенно в том виде, в каком она существует в Англии, показалась бы ему неосуществимой: установить царя, который будет царствовать, но не управлять, – от имени которого ведется все управление, но чья личная воля на практике почти или вовсе не имеет значения, – свободного от всякой ответственности, но не пользующегося этой свободой, – получающего от всех безмерные проявления почтения, которые никогда не превращаются в действия, выходящие за рамки известного закона, – окруженного всеми атрибутами власти, но действующего как пассивный инструмент в руках министров, выбранных по признакам, которым он не волен сопротивляться.
Это замечательное сочетание фикции сверхчеловеческого величия и вседозволенности с реальностью невидимого смирительного камзола – вот что англичанин имеет в виду, когда говорит о конституционном монархе: события нашей истории привели к этому в Англии, в среде аристократии, самой могущественной из всех, известных миру, – но нам еще предстоит узнать, может ли это существовать где-либо еще, или же появление одного-единственного царя, одновременно способного, агрессивного и решительного, не окажется достаточным, чтобы разрушить эту систему. Для Аристотеля это, несомненно, показалось бы непостижимым и неосуществимым: маловероятным даже в единичном случае – и совершенно немыслимым как постоянная система, учитывая все разнообразие характеров, присущих последовательным представителям наследственной династии.
Когда греки думали о человеке, свободном от юридической ответственности, они представляли его действительно таким – на деле, а не только на словах, – с беззащитным обществом, подверженным его угнетению; [15] и их страх и ненависть к нему измерялись [стр. 14] их почтением к правлению равного закона и свободного слова, с господством которого были связаны все их надежды на безопасность – в афинской демократии, пожалуй, больше, чем в любой другой части Греции. И это чувство, будучи одним из лучших в греческом сознании, было также одним из самых распространенных – пунктом единодушия, чрезвычайно ценным среди множества разногласий. Мы не можем истолковывать или критиковать его, ссылаясь на чувства современной Европы, а тем более на весьма своеобразные чувства Англии в отношении царской власти: и именно применение – иногда явное, иногда молчаливое – этого неподходящего стандарта делает оценку мистером Митфордом греческой политики столь часто неверной и несправедливой.
Когда мы пытаемся объяснить ход греческих дел не обстоятельствами других обществ, а обстоятельствами самих греков, мы увидим веские причины как для исчезновения, так и для неприязни к царской власти. Если бы греческий ум был столь же статичным и неразвивающимся, как ум восточных народов, недовольство отдельными царями могло бы привести лишь к смене плохого царя на того, кто обещал быть лучше, без какого-либо расширения взглядов народа на что-либо выше идеи личного правления. Но греческий ум был прогрессирующим, способным задумывать и постепенно реализовывать улучшенные социальные комбинации.
Более того, по самой природе вещей любое правление – царское, олигархическое или демократическое, – ограниченное одним городом, гораздо менее устойчиво, чем если бы оно охватывало большую территорию и население: и когда то полурелигиозное и механическое подчинение, которое компенсировало личные недостатки героического царя, стало слишком слабым, чтобы служить рабочим принципом, [стр. 15] мелкий правитель находился в слишком тесном контакте со своим народом и был во всех отношениях слишком скромно обставлен, чтобы создать какой-либо иной престиж или иллюзию: у него не было средств устрашать воображение людей сочетанием пышности, уединения и таинственности, которые Геродот и Ксенофонт так хорошо оценивают среди уловок царского искусства. [16]