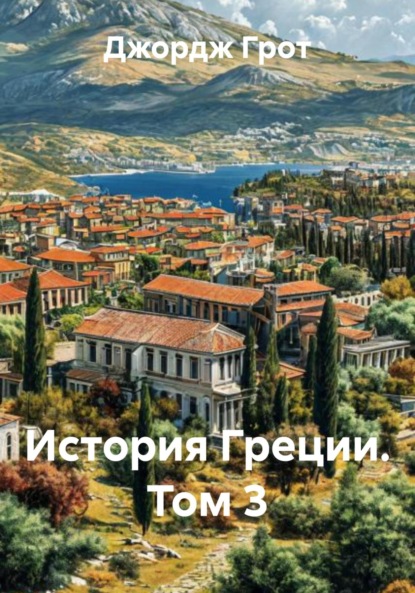- -
- 100%
- +
При перечислении различных и несогласованных элементов, из которых состояло население этих ранних греческих общин, нельзя упустить ещё один элемент, встречавшийся в дорийских государствах в целом, – людей дорийского происхождения в противопоставлении людям недорийского происхождения. Дорийцы во всех случаях были переселенцами и завоевателями, утверждавшимися за счёт прежних жителей. На каких условиях происходило это сосуществование и в каких пропорциях смешивались пришельцы и покорённые, нам неизвестно; и хотя этот фактор крайне важен для истории этих дорийских общин, мы знаем о нём лишь в общих чертах и не можем проследить его последствия в деталях. Однако нам достаточно известно, чтобы убедиться: в тех революциях, которые свергли [стр. 32] олигархии и в Коринфе, и в Сикионе, – а возможно, и в Мегаре, – дорийский и недорийский элементы общества вступили в более или менее прямой конфликт.
Первыми тиранами, о которых у нас есть чёткие упоминания, были правители Сикиона. Их династия продержалась сто лет – дольше, чем любая другая известная Аристотелю греческая тирания; более того, говорится, [39] что они правили мягко, с большим уважением к прежним законам. Орфагор, [40] основатель династии, пришёл к власти около 676 г. до н. э., свергнув существовавшую дорийскую олигархию; однако причины и обстоятельства этого переворота не сохранились. Говорят, он изначально был поваром. В числе его преемников упоминаются Андрей, Мирон, Аристоним и Клисфен; но о них, кроме последнего, ничего не известно, за исключением того, что Мирон одержал победу в гонке колесниц на 33-й Олимпиаде (648 г. до н. э.) и построил в том же священном месте сокровищницу с двумя украшенными медными нишами для хранения памятных даров от себя и своей семьи. [41]
Что касается Клисфена (чья [стр. 33] эпоха должна быть отнесена к периоду между 600–560 гг. до н. э., но точнее установить её сложно), то о нём сохранились весьма любопытные сведения, хотя и не совсем легко поддающиеся проверке.
Из рассказа Геродота мы узнаём, что фила, к которой принадлежал сам Клисфен [42] (а значит, и его предки Орфагор и другие Орфагориды), отличалась от трёх дорийских фил, уже упомянутых в моей предыдущей главе о Ликурговом устройстве в Спарте, – Гиллеев, Памфилов и Диманов. Мы также узнаём, что эти филы были общими для сикионян и аргосцев; и Клисфен, находясь в состоянии ожесточённой вражды с Аргосом, предпринял несколько попыток уничтожить точки соприкосновения между ними. Сикион, изначально доризированный переселенцами из Аргоса, входил в «долю Темена», то есть в число городов Аргосского союза. Сплочённость этого союза постепенно ослабевала, отчасти, несомненно, под влиянием предшественников Клисфена; но аргосцы, возможно, пытались возродить его, что привело их к состоянию войны с ним и побудило его открыто и насильственно разорвать связь Сикиона с Аргосом.
Существовали две основы, на которых держалась эта связь: во-первых, легендарная и религиозная общность; во-вторых, гражданские обряды и названия, принятые среди сикионских дорийцев. Клисфен уничтожил и то, и другое. Он изменил названия как трёх дорийских фил, так и недорийской филы, к которой принадлежал сам: последнюю он назвал комплиментарным именем архелаи (предводители народа), а первые три – оскорбительными именами гиатов, онеатов и хойреатов, происходящими от греческих слов, означающих «кабан», «осёл» и «поросёнок». Вся глубина этого оскорбления становится понятной, только если представить себе, с каким почтением в греческом городе относились к герою, от которого происходило название филы. [стр. 34] Геродот утверждает, что эти новые названия, данные Клисфеном, не только унижали дорийские филы, но и подчёркивали превосходство его собственной, и это заслуживает доверия.
Но ещё более отчётливо жестокость Клисфена в его антиаргосской ненависти проявилась в его действиях относительно героя Адраста и народных легендарных представлений. Об этом примечательном эпизоде уже упоминалось в моём предыдущем томе, [43] но здесь стоит вкратце повторить. Герой Адраст, чью часовню сам Геродот видел на сикионской агоре, почитался и в Аргосе, и в Сикионе, занимая особое место в обоих городах. В легендах он фигурирует как царь Аргоса, внук и наследник Полиба, царя Сикиона. Он был несчастным предводителем двух походов на Фивы, столь знаменитых в древнем эпосе, – и сикионяне с удовольствием слушали как о подвигах аргосцев против Фив, воспеваемых эпическими рапсодами, так и о скорбной судьбе Адраста и его семейных несчастьях, излагаемых в трагическом хоре.
Клисфен не только запретил рапсодам появляться в Сикионе, но и решил изгнать самого Адраста из страны – таков буквальный смысл греческого выражения, [44] поскольку героя считали реально присутствующим и живущим среди народа. Сначала он обратился к Дельфийскому оракулу за разрешением осуществить это изгнание напрямую, но пифия ответила гневным отказом: «Адраст – царь сикионян, а ты – негодяй». Потерпев неудачу, он прибегнул к хитрости, чтобы заставить Адраста уйти добровольно. [45] Он отправил послов в Фивы с просьбой разрешить ему ввести в Сикион героя Меланиппа, и разрешение было получено.
Меланипп был известен в легендах как могущественный защитник Фив против Адраста и аргосских осаждавших, убивший как Мекистея, брата Адраста, так и Тидея, его зятя, – и потому был особенно ненавистен Адрасту. Клисфен привёз этого антинационального героя в Сикион, выделив ему священный участок в пританее (правительственном здании), причём в наиболее укреплённой его части [46] (по-видимому, предполагалось, что Адраст может напасть на пришельца и вступить с ним в бой). Более того, он отнял у Адраста и трагические хоры, и жертвоприношения, передав первые Дионису, а вторые – Меланиппу.
Религиозные проявления Сикиона, таким образом, перешли от Адраста к его смертельному врагу и от дела аргивян в осаде Фив к делу фиванцев. Предполагалось, что Адраст добровольно покинул это место, и цель, которую преследовал Клисфен – разорвать общность чувств между Сикионом и Аргосом, – была отчасти достигнута.
Правитель, способный на такое насилие над религиозными и легендарными чувствами своей общины, вполне мог позволить себе намеренное оскорбление дорийских племен, выраженное в их новых названиях. Однако, поскольку мы не знаем состояния дел, предшествовавшего этим событиям, нам неизвестно, в какой мере это могло быть ответом на предшествующие оскорбления с противоположной стороны. Очевидно, что дорийцы Сикиона сохраняли себя и свои древние племена обособленно от остальной общины, хотя мы не можем точно определить, какие другие элементы составляли население и в каких отношениях они находились с этими дорийцами.
Действительно, нам известно о зависимом сельском населении на территории Сикиона, как и в Аргосе и Эпидавре, аналогичном илотам в Лаконии. В Сикионе этот класс назывался Коринефорами (дубинщики) или Катонакофорами – из-за толстых шерстяных плащей, которые они носили, с пришитыми к ним овечьими шкурами. В Аргосе их именовали Гимнесии – из-за отсутствия у них тяжелого вооружения или регулярного оружия. В Эпидавре – Кониподы (пыльноногие). [47] Можно заключить, что подобный класс существовал и в Кори [с. 36] нфе, в Мегаре, и в каждом из дорийских городов Арголидского акта.
Но помимо дорийских племен и этих сельчан, вероятно, существовали недорийские землевладельцы и городские жители, и на них, возможно, опиралась власть Орфагоридов и Клисфена – возможно, более дружелюбная и снисходительная к сельским сервам, чем прежняя власть дорийцев. Умеренность, которую Аристотель приписывает Орфагоридам в целом, опровергается действиями Клисфена. Однако можно предположить, что его предшественники, довольствуясь поддержанием реального преобладания недорийского населения над дорийским, мало вмешивались в обособленное положение и гражданские привычки последних, – тогда как Клисфен, спровоцированный или встревоженный их попытками укрепить союз с аргивянами, прибег как к репрессивным мерам, так и к тем оскорбительным названиям, которые были приведены выше.
Сохранение власти Клисфена было обусловлено (по Аристотелю) скорее его военной энергией, чем умеренностью и народным правлением; этому также способствовали, вероятно, его великолепные выступления на общественных играх, ибо он одержал победу в гонках колесниц на Пифийских играх в 582 г. до н. э., а также на Олимпийских играх. Более того, он фактически был последним в своем роде и не передал свою власть преемнику. [48]
Таким образом, правление ранних Орфагоридов можно рассматривать как недавно приобретенное, но спокойно осуществляемое преобладание недорийцев над дорийцами в Сикионе, тогда как правление Клисфена ознаменовалось резким всплеском вражды первых ко вторым. И хотя эта вражда и использование оскорбительных племенных названий приписываются лично Клисфену, можно видеть, что недорийцы Сикиона разделяли её, поскольку эти названия сохранялись не только во время его правления, но и в течение шестидесяти лет после его смерти. Разумеется, излишне говорить, что такие наименования никогда не могли быть признаны или использоваться среди самих дорийцев. [с. 37]
Спустя шестьдесят лет после смерти Клисфена сикионцы пришли к мирному урегулированию вражды и установили племенные названия, удовлетворительные для всех сторон: старые дорийские имена (Гиллеи, Памфилы и Диманы) были восстановлены, а название четвертого племени (недорийцев) изменено с Архелаев на Эгиалеев – эпонимом для них был избран Эгиалей, сын Адраста. [49] Этот выбор сына Адраста в качестве эпонима, по-видимому, указывает на то, что культ самого Адраста был тогда возрожден в Сикионе, поскольку он существовал во времена Геродота.
О войне, которую Клисфен помог вести против Кирры для защиты Дельфийского храма, я расскажу в другом месте. Его смерть и прекращение династии, по-видимому, произошли около 650 г. до н. э., насколько можно восстановить хронологию. [50] Предположение, что он был свергнут спартанцами (как считают К. Ф. [с. 38] Германн, О. Мюллер и доктор Тирлуолл), [51] едва ли согласуется с рассказом Геродота, который упоминает сохранение оскорбительных имен, навязанных дорийским племенам Клисфеном, в течение многих лет после его смерти. Ведь если бы спартанцы силой вмешались для подавления его династии, можно разумно предположить, что даже если они не восстановили бы решительное преобладание дорийцев в Сикионе, то по крайней мере избавили бы дорийские племена от этого явного унижения.
Но сомнительно, что у Клисфена вообще был сын. Исключительное значение, придаваемое браку его дочери Агаристы, выданной за афинянина Мегакла из знатного рода Алкмеонидов, скорее указывает на то, что она была наследницей – не его власти, но его богатства. Нет сомнений в факте этого брака, от которого родился афинский лидер Клисфен, впоследствии автор великой демократической революции в Афинах после изгнания Писистратидов. Однако живые и занимательные подробности, которыми Геродот окружил этот рассказ, носят скорее отпечаток романтики, чем реальности. По-видимому, сочиненные каким-то изобретательным афинянином в комплимент алкмеонидской линии его города (включавшей и Клисфена, и Перикла), эти повествования увековечивают брачное соперничество между этой линией и другим знатным афинским домом, одновременно давая мифическое объяснение, казалось бы, пословичному в Афинах выражению: «Гиппоклиду наплевать». [52]
Плутарх упоминает Эсхина Сикионского [53] среди тиранов, свергнутых Спартой. Но когда это произошло и как это связано с историей Клисфена, изложенной у Геродота, мы сказать не можем.
Современниками Орфагоридов в Сикионе – начавшими чуть позже и завершившими несколько раньше – были тираны Кипсел и Периандр в Коринфе. Первый выступил как ниспровергатель олигархии, называвшейся Бакхиады. О том, как он достиг своей цели, у нас нет сведений, и этот исторический пробел неадекватно заполнен различными религиозными предзнаменованиями и оракулами, предвещавшими возвышение, суровое правление и свержение после двух поколений этих могущественных тиранов.
Согласно глубоко укоренившейся в греческом сознании идее, гибель великого князя или великой державы обычно предвещается ему богами заранее, хотя по черствости сердца или по неосторожности к предупреждению не прислушиваются. Что касается Кипсела и Вакхиадов, то нам сообщают, что Мелас, предок первого, был одним из первых поселенцев в Коринфе, сопровождавших первого дорийского вождя Алетеса, и что Алетес напрасно был предупрежден оракулом не принимать его; [54] опять же, непосредственно перед рождением Кипсела, Вакхиады получили извещение, что его мать собирается родить того, кто станет их гибелью: Опасный младенец избежал гибели лишь на волосок от смерти, будучи спасен от намерений своих губителей удачным сокрытием в сундуке. Лабба, мать Кипсела, была дочерью Амфиона, принадлежавшего к роду, или септу, вакхиадов; но она была хромой, и никто из рода не согласился бы взять ее в жены с таким уродством. Эетион, сын Эхекратеса, ставший ее мужем, принадлежал к другой, но не менее выдающейся героической генеалогии: он был из рода лапитов, происходил от Кенея и жил в коринфском деме под названием Петра. Таким образом, мы видим, что Кипсел был не только высокородным человеком в городе, но и вакхиадом по полукровке; оба эти обстоятельства должны были сделать отстранение от управления непереносимым для него. Он пользовался большой популярностью в народе, с его помощью сверг и изгнал вакхиадов и оставался деспотом в Коринфе тридцать лет до своей смерти (655—625 гг. до н. э.). Согласно Аристотелю, он всю жизнь сохранял ту же примирительную манеру поведения, с помощью которой была приобретена его власть; его популярность поддерживалась настолько эффективно, что ему никогда не требовалась телохранителей. Но коринфская олигархия века Геродота, чей рассказ этот историк воплотил в оратории коринфского посланника Сосиклеса [55] к спартанцам, [p. 41] дала совсем другое описание и изобразила Кипсела жестоким правителем, который изгонял, грабил и убивал поголовно.
Его сын и преемник Периандр, хотя и был энергичным воином, отличался как поощритель поэзии и музыки и даже был причислен некоторыми к семи мудрецам Греции, тем не менее, единодушно представлен как деспотичный и бесчеловечный в своем обращении с подданными. Отвратительные истории, которые рассказывают о его личной жизни, отношениях с матерью и женой, можно по большей части считать клеветой, вызванной неприятными ассоциациями с его памятью; однако есть все основания приписывать ему тиранию самого худшего характера, а кровожадные максимы предосторожности, столь часто применяемые греческими деспотами, по общему мнению, восходят к Периандру [56] и его современнику Фрасибулу, деспоту Милета. Он содержал мощную телохранителей, пролил много крови и был непомерен в своих поборах, часть которых уходила на вотивные жертвы в Олимпии; и эта щедрость богам рассматривалась Аристотелем и другими как часть преднамеренной системы, направленной на то, чтобы держать своих подданных как в тяжелом труде, так и в бедности. В одном случае нам рассказывают, что он пригласил женщин Коринфа собраться для празднования религиозного праздника, а затем лишил их богатых нарядов и украшений. Некоторые поздние авторы изображают его как сурового противника роскоши и распутных привычек, побуждающего к промышленности, заставляющего каждого человека отчитываться о средствах к существованию и заставляющего бросать в море коринфских проституток. [57] Хотя на общие черты его характера, его жестокую тиранию в не меньшей степени, чем на его энергичность и способности, можно вполне положиться, конкретные происшествия, связанные с его именем, крайне сомнительны: наиболее достоверным из всех представляется рассказ о его необъяснимой ссоре с сыном и жестоком обращении со многими знатными коркирскими юношами, о чем повествует Геродот. Пери [p. 42] андер, как говорят, предал смерти свою жену Мелиссу, дочь Проклеса, деспота Эпидавра; его сын Ликофрон, узнав об этом поступке, воспылал к нему неизлечимой антипатией. После тщетных попыток, как суровыми, так и примирительными мерами, покорить это чувство сына, Периандр отправил его жить в Коркиру, которая тогда находилась под его властью; но когда он обнаружил, что состарился и стал инвалидом, он отозвал его в Коринф, чтобы гарантировать продолжение династии. Ликофрон по-прежнему упорно отказывался от личного общения с отцом, и тогда тот попросил его приехать в Коринф, а сам отправился на Коркиру. Коркиряне были так напуганы мыслью о визите этого грозного старика, что предали Ликофрона смерти, за что Периандр отомстил, схватив триста юношей из самых знатных семей и отправив их к лидийскому царю Аляттесу в Сарды, чтобы тот кастрировал их и заставил служить евнухами. Коринфские корабли, на которых были отправлены юноши, к счастью, по пути зашли на Самос, где саамитяне и книдяне, потрясенные таким поступком, возмутившим все эллинские чувства, сумели спасти юношей от предназначенной им жалкой участи и после смерти Периандра отправили их обратно на родной остров [58].
С неудовольствием отворачиваясь от политической жизни этого человека, мы в то же время знакомимся с огромными масштабами его власти, превосходящей ту, которой когда-либо обладал Коринф после прекращения его династии. Коркира, Амбракия, Леука и Анакториум, все коринфские колонии, но в следующем веке ставшие независимыми государствами, в его время оказываются зависимыми от Коринфа. Амбракия, как говорят, находилась под властью другого деспота по имени Периандр, вероятно, тоже кипселида по происхождению. Похоже, что города Анакторий, Леукас и Аполлония в Ионическом заливе были либо основаны Кипселидами, либо получили подкрепление из коринфских колонистов во время их правления, хотя Коркира была основана значительно раньше [59].
[с. 43] Правление Периандра продолжалось сорок лет (625—585 гг. до н. э.): Псамметих, сын Гордия, сменивший его, царствовал три года, и на этом династия Кипселидов, как говорят, завершилась, просуществовав семьдесят три года. [60] По могуществу, пышности и широким связям как в Азии, так и в Италии они, очевидно, занимали высокое место среди греков своего времени. Их приношения, освященные в Олимпии, вызывали большое восхищение, особенно позолоченная колоссальная статуя Зевса и большой сундук из кедрового дерева, посвященный храму Геры, покрытый различными фигурами из золота и слоновой кости: фигуры были заимствованы из мифических и легендарных историй, а сундук был памятью как имени Кипсела, так и истории о его чудесном сохранении в младенчестве. [Если Плутарх прав, то эта могущественная династия должна быть причислена к деспотам, свергнутым Спартой; [62] однако такое вмешательство спартанцев, если допустить, что оно было фактическим, вряд ли было известно Геродоту.
Совпадая по времени с началом правления Периандра в Коринфе, мы находим Феагенеса деспотом в Мегаре, который, как говорят, также приобрел свою власть демагогическими искусствами, а также жестокими нападениями на богатых владельцев, чей скот он уничтожал на пастбищах у берега реки. Мы не знаем, каким предыдущим поведением богачей была вызвана эта ненависть народа, но Теагенес полностью увлек народные чувства за собой, получил путем общественного голосования корпус стражников якобы для своей личной безопасности и использовал их для свержения олигархии. [63] Но ему не удалось сохранить свою власть даже ради собственной жизни: Вторая революция свергла и изгнала его; по этому случаю, после короткого промежутка умеренного правления, народ, как говорят, возобновил в еще более заметной форме свою антипатию к богачам; изгнал некоторых из них с конфискацией имущества, вторгся в дома других с требованиями принудительного гостеприимства и даже принял официальный указ о палинтокии, чтобы потребовать от богачей, ссудивших деньги под проценты, возврата всех прошлых процентов, выплаченных им их должниками. [64] Чтобы правильно оценить такое требование, мы должны помнить, что практика взимания процентов за одолженные деньги рассматривалась значительной частью раннего античного общества с чувством безоговорочного осуждения; и мы увидим, когда перейдем к законодательству Солона, насколько такие бурные реакционные чувства против кредитора были спровоцированы предшествующим действием сурового закона, определяющего его права.
В общих чертах мы слышим о более чем одной революции в правительстве Мегары – беспорядочной демократии, низвергнутой вернувшимися олигархическими изгнанниками, которые снова не смогли долго продержаться; [65] но мы в равной степени не осведомлены о датах и деталях. Что же касается одной из этих битв, то нам доступны излияния современника и страдальца – мегарийского поэта Феогниса. К сожалению, его элегические стихи в том виде, в котором они дошли до нас, настолько разорваны, бессвязны и интерполированы, что мы не можем составить четкого представления о событиях, которые их вызвали, и тем более не можем обнаружить в стихах Феогниса ту силу и особенность чисто дорийского чувства, которую, начиная с публикации «Истории дорийцев» О. Мюллера, стало модно так активно искать. Но мы видим, что поэт был связан с олигархией, родовой, а не богатой, которая недавно была низвергнута в результате проникновения в нее деревенского населения, ранее подвластного и деградировавшего, – что эти подданные были довольны подчиниться одноглавому деспоту, чтобы спастись от своих прежних правителей, – и что сам Феогнис был предан своими друзьями и товарищами, лишен своего имущества и сослан по вине «врагов, кровь которых он надеется однажды получить возможность пить». « [66] Состояние подданных-земледельцев до этой революции он изображает в печальных красках; они «жили за городом, одетые в козьи шкуры, и не знали ни судебных санкций, ни законов» [67], после нее они стали гражданами, и их значение значительно возросло. И вот, по его впечатлению, мерзкая порода попирает благородную, – плохие становятся хозяевами, а хорошие больше не имеют никакого значения. Горечь и унижение, которые сопровождают бедность, и неоправданное превосходство, которое богатство дает даже самым никчемным из людей, [68] являются одними из главных предметов его жалоб, и одного его острого личного чувства в этом вопросе достаточно, чтобы показать, что недавняя революция ни в коей мере не отменила влияния собственности; вопреки мнению Велькера, который безосновательно заключает из отрывка с неопределенным смыслом, что земля государства была формально разделена. [69] [p. 46] Мегарская революция, насколько мы понимаем ее из слов Феогниса, похоже, существенно улучшила положение земледельцев вокруг города и усилила определенный класс, который он считает «плохими богачами», – в то же время она уничтожила привилегии того правящего порядка, к которому он сам принадлежал, называемого на его языке «хорошими и добродетельными», что губительно сказалось на его собственном состоянии. Насколько этот правящий порядок был исключительно дорийским, мы не можем определить. Политические перемены, от которых пострадал Теог [p. 47] нис, и новый деспот, которого он называет либо уже установленным, либо почти надвигающимся, должны были произойти значительно позже деспотии Феагенеса; ведь жизнь поэта, похоже, приходится на период между 570—490 гг. до н. э., В то время как Теагенес, должно быть, правил около 630—600 гг. до н. э. Из неблагоприятной картины, которую поэт дает в качестве своего собственного раннего опыта о состоянии сельских земледельцев, очевидно, что деспот Теагенес не предоставил им никаких постоянных льгот и не дал им доступа к судебной защите города.
Таким образом, деспоты Коринфа, Сикиона и Мегары служат образцами тех революционных влияний, которые в начале VI века до н. э., похоже, поколебали или опрокинули олигархические правительства в очень многих городах греческого мира. Между деспотами Коринфа и Сикиона существовала определенная симпатия и союз: [70] насколько это чувство распространялось на Мегару, мы не знаем. Последний город, очевидно, был более густонаселенным и могущественным в седьмом и шестом веках до нашей эры, чем в последующие два блестящих века греческой истории: ее колонии, расположенные так далеко, как Вифиния и фракийский Босфор с одной стороны, и как Сицилия с другой, утверждают, что масштабы торговли, а также военно-морская сила когда-то не уступали Афинам: так что мы будем менее удивлены, когда подойдем к жизни Солона, обнаружив ее во владении островом Саламином и долго удерживающей его, в одно время со всеми обещаниями триумфа, против всех сил афинян. [p. 48]
Глава X.
ИОНИЙСКАЯ ЧАСТЬ ЭЛЛАДЫ. – АФИНЫ ДО СОЛОНА.
Проследив в предыдущих главах скудный поток истории Пелопоннеса от первого начала достоверной хронологии в 776 г. до н. э. до максимума территориальных приобретений Спарты и всеобщего признания спартанского первенства до 547 г. до н. э., я перехожу к изложению того, что можно установить относительно ионийской части Эллады в тот же период. Эта часть включает Афины и Эвбею, Кикладские острова, а также ионийские города на побережье Малой Азии с их различными колониями.