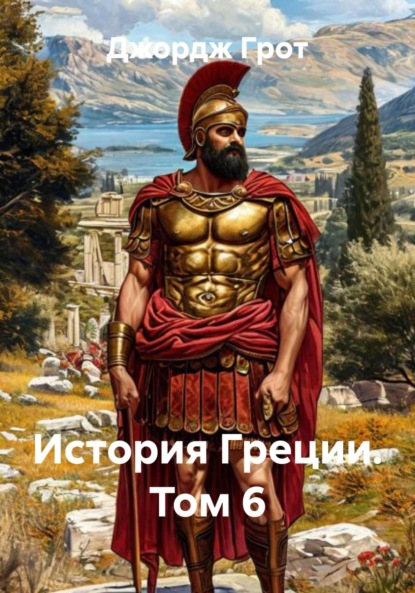- -
- 100%
- +
Как Фукидид приводит оба этих высказывания, не указывая, какому из двух он сам отдает предпочтение, мы можем предположить, что оба они находили доверие среди уважаемых лиц. Беотийская версия, несомненно, более правдоподобна: однако платейцы, судя по всему, нарушили договоренность даже согласно их собственной трактовке. Ибо едва беотийцы удалились, как они (платейцы) поспешно ввели своих граждан и лучшее из своего движимого имущества за стены, а затем немедленно перебили всех пленных, даже не вступая в формальные переговоры. Число казненных таким образом пленных, среди которых был и сам Евримах, составило сто восемьдесят человек. [206] [стр. 119]
При первом ночном вторжении беотийцев из Платеи в Афины был отправлен гонец с известием о нападении; вслед за ним был послан второй, чтобы сообщить о победе и пленении врагов, как только это произошло. Афиняне немедленно отправили обратно глашатая, приказав платейцам не предпринимать никаких действий в отношении пленных до совещания с Афинами. Перикл, несомненно, опасался того, что и произошло: ибо пленные были убиты до прибытия его посланника. Если отвлечься от условий соглашения и рассматривать только общепринятую практику древней войны, их уничтожение нельзя было назвать необычайно жестоким, хотя беотийцы, когда фортуна оказалась на их стороне, предпочли изображать его именно так, [207] – но беспристрастные современники отметили бы, а афиняне в особенности глубоко сожалели бы о вопиющей недальновидности этого поступка. Для Фив, конечно, наилучшим исходом было бы немедленное возвращение своих пленных граждан; но следующим по желательности было бы известие об их казни. В руках афинян и платейцев они стали бы средством добиться от Фив гораздо более ценных уступок, чем стоила их жизнь как часть фиванской мощи: так сильно было чувство солидарности с заключенными согражданами, многие из которых были людьми знатными и влиятельными, – что видно по прошлому поведению Афин после битвы при Коронее и по поведению Спарты, о котором будет рассказано далее, после взятия Сфактерии. Платейцы, повинуясь простому инстинкту гнева и мести, упустили этот значительный политический выигрыш, которым дальновидный Перикл охотно воспользовался бы.
В то время, когда афиняне отправили своего глашатая в Платею, они также отдали приказ задержать всех беотийцев, которых можно было найти в Аттике; одновременно они без промедления направили войска для снабжения Платеи и превращения ее в гарнизонный [стр. 120] город, перевезя в Афины стариков, больных, женщин и детей. Ни одна из сторон не помышляла о жалобах или обсуждении недавнего нападения: для обеих было очевидно, что война теперь действительно началась, – что не оставалось места ничему, кроме мыслей о способах ее ведения, – и что дальнейшие личные контакты возможны только под защитой герольдов. [208] Событие в Платее, яркое во всех отношениях, довело напряжение обеих сторон до высшей точки воодушевления. Повсюду, особенно среди молодежи, еще не знакомой с подлинной горечью войны, которую взрастило долгое перемирие, только что нарушенное, царил дух решительности и предприимчивости; зараза высокого напряжения распространилась от главных противников во все уголки Греции, отчасти проявляясь в умножении оракулов, пророчеств и религиозных преданий, приспособленных к моменту: [209] недавнее землетрясение на Делосе, а также другие необычные физические явления истолковывались как предзнаменования грозной надвигающейся борьбы, – периода, роковым образом отмеченного не только затмениями, землетрясениями, засухой, голодом и чумой, но и прямыми бедствиями войны. [210]
Столь безосновательное нападение на Платею, несомненно, способствовало укреплению единодушия афинского народного собрания, заставило замолчать противников Перикла и придало дополнительный вес тем частым увещеваниям, [211] с помощью которых великий государственный деятель обычно поддерживал мужество своих сограждан. Были разосланы предупреждения и ободряющие послания многочисленным союзникам Афин, как данникам, так и свободным: последние, за исключением фессалийцев, акарнанцев и мессенцев в Навпакте, все были островитянами – хиосцы, лесбосцы, коркиряне и закинфяне: послы были отправлены и на остров Кефаллению, но он был фактически присоединен к их союзу лишь несколькими месяцами позже. [212] С акарнанцами их связь также установилась незадолго до этого, по-видимому, прошлым летом, в связи с событиями в городе Аргосе в Амфилохии. Этот город, расположенный на южном побережье Амбракийского залива, первоначально был заселен частью амфилохов, неэллинского племени, чье происхождение, по-видимому, было чем-то средним между акарнанцами и эпиротами. Колонисты из Амбракии, допущенные к совместному проживанию с амфилохскими жителями этого города, вскоре изгнали их и оставили город с его территорией исключительно за собой. Изгнанные жители, объединившись с соплеменниками вокруг, а также с акарнанцами, искали пути восстановления справедливости; и чтобы добиться этого, призвали на помощь Афины. Соответственно, афиняне отправили экспедицию из тридцати триер под командованием Формиона, который, объединившись с амфилохами и акарнанцами, напал на Аргос, захватил его, обратил амбракиотов в рабство и вернул город амфилохам и акарнанцам. Именно тогда впервые был заключен союз акарнанцев с Афинами и началась их личная привязанность к афинскому полководцу Формиону. [213]
Многочисленные подданные Афин, чьй вклад был воплощён в ежегодной дани, были рассеяны по всему Эгейскому морю и вокруг него, включая все острова к северу от Крита, за исключением Мелоса и Феры. [214] Более того, военные силы, собранные в самих Афинах, полностью соответствовали метрополии столь великой империи. Перикл мог отчитаться перед своими согражданами о трёхсот триерах, годных к активной службе; тысяче двухстах всадниках и конных лучниках; шестнадцатистах лучниках; и главной силе – не менее двадцати девяти тысяч гоплитов, – в основном граждан, но отчасти и метеков. [стр. 122] Избранная часть этих гоплитов, как по возрасту, так и по снаряжению, насчитывала тринадцать тысяч; тогда как оставшиеся шестнадцать тысяч, включая старших и младших граждан, а также метеков, несли гарнизонную службу на стенах Афин и Пирея, – на длинной линии стен, соединявших Афины как с Пиреем, так и с Фалером, – а также в различных укреплённых пунктах как внутри, так и вне Аттики.
В дополнение к этим значительным военным и морским силам, город обладал на акрополе накопленным запасом серебряной монеты, составлявшим не менее шести тысяч талантов, или около одного миллиона четырёхсот тысяч фунтов, полученных за счёт ежегодных отчислений от дани союзников и, возможно, других доходов: в своё время этот запас достигал девяти тысяч семисот талантов, или около двух миллионов двухсот тридцати тысяч фунтов, но затраты на недавние религиозные и архитектурные украшения в Афинах, а также на осаду Потидеи, сократили его до шести тысяч.
Более того, акрополь и храмы по всему городу были богаты посвятительными дарами, вкладами, священной утварью, серебряными предметами для процессий и празднеств и т. д., на сумму, оцениваемую более чем в пятьсот талантов; тогда как величественная статуя богини, недавно воздвигнутая Фидием в Парфеноне, состоявшая из слоновой кости и золота, включала количество последнего металла весом не менее сорока талантов, – равное по стоимости более чем четырёмстам талантам серебра, – причём всё это было устроено так, что золото можно было при желании снять со статуи.
Упоминая эти священные ценности среди ресурсов государства, Перикл говорил о них лишь как о доступных для такого применения в случае нужды, с твёрдым намерением возместить их в первый же период процветания, подобно тому как коринфяне предлагали занять у Дельф и Олимпии.
Помимо этого наличного запаса, поступал значительный ежегодный доход, составлявший, по одной только статье дани от подвластных союзников, шестьсот талантов, что равнялось примерно ста тридцати восьми тысячам фунтов; не считая всех прочих статей, [215] составлявших общую сумму не менее тысячи талантов, или около двухсот тридцати тысяч фунтов.
К этому грозному перечню средств для войны добавлялись другие пункты, не менее важные, но не поддающиеся взвешиванию и подсчёту: непревзойдённое морское мастерство и дисциплина моряков, – единодушный и пламенный демократический дух основной массы граждан, – и превосходное развитие руководящего ума. И если мы учтём, что у противника действительно была на его стороне неодолимая сухопутная сила, но почти ничего более, – мало кораблей, нет обученных моряков, нет средств, нет способности к объединению или руководству, – мы можем быть уверены, что у такого оратора, как Перикл, были все основания рисовать обнадёживающую картину будущего.
Он мог изобразить Афины как держащие Пелопоннес в осаде посредством своего флота и цепи островных постов; [216] и он мог гарантировать успех [217] как верную награду за упорные, упорядоченные и продуманные усилия, соединённые с твёрдым терпением в период временных, но неизбежных страданий; а также соединённые с другим условием, почти столь же трудным для афинского нрава, – воздержанием от соблазнительных планов далёких предприятий, пока их силы требовались нуждами войны у себя дома. [218]
Но такие перспективы основывались на дальновидном расчёте, смотрящем дальше непосредственных потерь, и потому менее способном захватить ум обычного гражданина, – или, во всяком случае, быть подавленным на время давлением реальных трудностей. Более того, лучшее, что мог обещать Перикл, было успешное сопротивление – нерушимое поддержание той великой империи, к которой Афины привыкли; политика чисто оборонительная, без всякого стимула надежды на положительные приобретения, – и не только без сочувствия других государств, но с чувствами простой покорности со стороны большинства её союзников, – и сильной враждебности повсюду в остальном.
По всем этим последним пунктам положение Пелопоннесского союза было гораздо более обнадёживающим. Столь мощная группа союзников никогда прежде не собиралась, – даже для сопротивления Ксерксу. Не только вся сила Пелопоннеса – за исключением аргивян и ахейцев, оба из которых оставались нейтральными вначале, хотя ахейский город Пеллена присоединился даже в самом начале, а все остальные впоследствии – была собрана, но также мегарцы, беотийцы, фокидяне, опунтские локры, амбракиоты, лeвкадцы и анакторийцы.
Среди них Коринф, Мегара, Сикион, Пеллена, Элида, Амбракия и Левкада поставляли морские силы, тогда как беотийцы, фокидяне и локры – конницу. Многие из этих городов, однако, поставляли также и гоплитов; но остальные союзники давали только гоплитов. Именно на эту последнюю силу, не исключая могучей беотийской конницы, возлагались основные надежды; особенно для первой и самой важной операции войны – опустошения Аттики.
Связанные сильнейшим общим чувством активной неприязни к Афинам, весь союз был полон надежд и уверенности в этом немедленном наступлении, – столь приятном одновременно и для их ненависти, и для их любви к грабежу, через опустошение богатейшей страны Греции, – и представлявшем даже шанс закончить войну сразу, если гордость афинян будет уязвлена настолько нестерпимо, что спровоцирует их выйти и сразиться.
Уверенность в немедленном успехе при первом же выступлении, общая цель, которую предстояло достичь, и общий враг, которого нужно было сокрушить, а также благоприятные симпатии по всей Греции, – все эти обстоятельства наполняли пелопоннесцев радужными надеждами в начале войны: и общим убеждением было, что Афины, даже если не будут приведены к покорности первым вторжением, не смогут продержаться более двух или трёх лет против повторения этого разрушительного процесса. [219]
Резко контрастировала эта уверенность с гордым и решительным подчинением необходимости, не лишённым мрачных предчувствий относительно исхода, царившим среди слушателей Перикла. [220] [стр. 125] Хотя пелопоннесцы были уверены, что добьются своего с помощью простой сухопутной кампании, они не пренебрегали вспомогательными приготовлениями к морской и затяжной войне. Лакедемоняне решили довести свои и союзные морские силы до совокупного числа в пятьсот триер, в основном с помощью дружественных дорийских городов на побережье Италии и Сицилии. На каждый из них была наложена определенная повинность, а также установлен конкретный контингент; им было приказано готовиться тайно, без немедленного объявления войны Афинам и даже без отказа впускать афинские корабли в свои гавани на текущий момент. [221] Кроме того, лакедемоняне разработали планы отправки послов к персидскому царю и другим варварским державам – что стало примечательным свидетельством печального переворота в греческих делах, когда тот самый властитель, которого общими усилиями Греции с трудом отразили несколькими годами ранее, теперь призывался ввести финикийский флот в Эгейское море, чтобы сокрушить Афины.
Однако первоочередной задачей было безотлагательное вторжение в Аттику, и для этого лакедемоняне разослали циркулярные приказы сразу после неудачной попытки захватить Платеи. Хотя для санкционирования войны требовалось голосование союзников, но как только оно было проведено, лакедемоняне взяли на себя руководство всеми исполнительными мерами. Две трети гоплитов от каждого союзного города – по-видимому, две трети от определенной установленной нормы, по которой город числился в союзных списках (так что беотийцы и другие, поставлявшие конницу, не обязаны были отправлять две трети всех своих гоплитов), – были призваны явиться в назначенный день на Коринфский перешеек с провизией и снаряжением для продолжительного похода. [стр. 126] [222] В указанный день все войско собралось в полном составе, и спартанский царь Архидам, приняв командование, обратился к военачальникам и старшим офицерам от каждого города с речью, сочетавшей торжественное предостережение и ободрение.
Его слова были направлены главным образом на то, чтобы ослабить царившее в армии настроение самоуверенного оптимизма. Упомянув о важности момента, мощном импульсе, охватившем всю Грецию, и всеобщих добрых пожеланиях, сопровождавших их в борьбе против столь ненавистного врага, он предостерег их, чтобы превосходство в численности и храбрости не ввело их в искушение действовать опрометчиво и беспорядочно.
«Мы идем против врага, превосходно оснащенного во всех отношениях, так что можем быть уверены: они выйдут сражаться, [223] даже если сейчас не двинутся нам навстречу к границе, то уж точно тогда, когда увидят нас на их земле, опустошающих и уничтожающих их имущество. Любой человек, подвергшийся необычному оскорблению, приходит в ярость и действует скорее под влиянием страсти, чем расчета, когда это происходит у него на глазах. Тем более так поступят афиняне, привыкшие к владычеству и к тому, чтобы разорять чужие земли, а не видеть свои в таком состоянии».
Как только войско собралось, Архидам отправил Мелесиппа в Афины в качестве посла, чтобы объявить о предстоящем вторжении, всё ещё надеясь, что афиняне уступят. Однако по предложению Перикла уже было принято решение не принимать ни герольдов, ни послов от лакедемонян, как только их армия выступит в поход. Поэтому Мелесиппа отослали обратно, даже не позволив войти в город. Ему приказали покинуть территорию до заката, приставив провожатых, чтобы он не мог ни с кем заговорить. Прощаясь с ними на границе, Мелесипп воскликнул [стр. 127] [224] с торжественностью, которая, увы, впоследствии оказалась слишком оправданной:
«Этот день станет началом многих бедствий для греков».
Когда Архидаму сообщили о приеме его последнего посла, он продолжил марш с перешейка в Аттику, войдя на её территорию через Эною – пограничную афинскую крепость со стороны Беотии. Его продвижение было медленным, и он счел необходимым предпринять планомерную атаку на форт Энои, который был так хорошо укреплен, что после тщетных попыток штурма (в которых лакедемоняне не были искусны) [225] и нескольких дней задержки у крепости ему пришлось отказаться от этой затеи.
Отсутствие энтузиазма со стороны спартанского царя – его многочисленные задержки: сначала на Истме, затем в походе и, наконец, перед Эноей – всё это раздражало пылкое нетерпение войска, которое громко роптало против него. Он действовал в соответствии с расчётом, уже изложенным в его речи в Спарте, [226] – что высоко возделанные земли Аттики следовало рассматривать как залог мирных настроений афинян, которые с большей вероятностью уступят, когда опустошение, хотя ещё и не начатое, будет тем не менее нависать над ними. С этой точки зрения небольшая задержка у границы не была недостатком; и, возможно, сторонники мира в Афинах могли внушить ему надежду, что это позволит им взять верх.
Мы также не можем сомневаться, что для Перикла в Афинах это было время огромных трудностей. Ему пришлось объявить всем землевладельцам Аттики горькую правду: они должны быть готовы увидеть свои земли и дома разорёнными, а самим, вместе с семьями и движимым имуществом, искать спасения либо в Афинах, либо в одном из укреплений на территории, либо переправиться на соседние острова.
[стр. 128] Без сомнения, благоприятное впечатление производили его слова о том, что Архидам – его личный друг, но лишь в тех пределах, которые совместимы с долгом перед городом. Поэтому, если захватчики, опустошая Аттику, получат указание пощадить его собственные земли, он немедленно передаст их государству как общественную собственность. И такой случай был вполне возможен, если не из-за личных чувств Архидама, то хотя бы из-за продуманного манёвра спартанцев, которые стремились таким образом настроить афинский народ против Перикла, как они уже пытались сделать ранее, потребовав изгнания святотатственного рода Алкмеонидов. [227]
Но хотя это заявление, несомненно, вызвало бы горячее одобрение, урок, который он должен был внушить – не просто как разумную политику, но как необходимость к действию, – был отвратителен для его сограждан как с точки зрения их непосредственных интересов, так и с точки зрения их достоинства и чувств. Видеть свои земли разорёнными, не подняв руки для защиты, увозить жён и детей, покидать и оставлять без защиты свои загородные дома, как они делали во время персидского нашествия, – всё это в надежде на компенсацию в будущем и отдалённый конечный успех – были рекомендации, которые, вероятно, никто, кроме Перикла, не смог бы надеяться провести в жизнь.
Более того, это было тем более болезненно, что афинские граждане в большинстве своём сохраняли привычку постоянно проживать не в Афинах, а в различных демах Аттики; многие из них всё ещё хранили свои храмы, праздники, местные обычаи и ограниченную муниципальную автономию, унаследованные со времён, когда они были независимы от Афин. [228] Лишь недавно сельское хозяйство, удобства и украшения, рассеянные по Аттике, были восстановлены после разрушений персидского нашествия и доведены до ещё более высокого уровня, чем прежде; и вот теперь плоды этих трудов и места, связанные с местными привязанностями, снова должны были быть сознательно преданы [стр. 129] новому агрессору в обмен на крайние лишения и неудобства.
Архидам вполне мог сомневаться, хватит ли афинянам решимости принять это тяжёлое решение, когда наступит критический момент, и не заставят ли они Перикла против его воли пойти на мирные предложения. Его задержка у границы и отсрочка опустошения давали наилучший шанс для таких предложений; но поскольку этот расчёт не оправдался, войска выдвигали правдоподобные обвинения против него за то, что он дал афинянам время спасти так много своего имущества.
Со всех концов Аттики жители стекались за просторные стены Афин, которые теперь служили убежищем для лишившихся крова, подобно Саламину сорок девять лет назад: целые семьи со всем движимым имуществом и даже с деревянными частями своих домов; овец и скот переправляли на Эвбею и другие соседние острова. [229] Хотя немногие из беженцев нашли кров или приют у друзей, большинству пришлось разместиться на свободных участках города и Пирея, а также в многочисленных храмах и вокруг них – за исключением, разумеется, акрополя и Элевсиниона, всегда строго закрытых для мирских поселенцев; но даже участок, называемый Пеласгикон, расположенный прямо под акрополем, который по древней и зловещей традиции был запрещён для жилья, [230] теперь использовался ввиду крайней необходимости. Многие также разместили свои семьи в башнях и углублениях [стр. 130] городских стен, [231] или в сараях, хижинах, палатках и даже бочках, расставленных вдоль Длинных стен до Пирея. Несмотря на столь тяжёлые потери и лишения, афиняне достойно повторили стойкость своих отцов во времена Ксеркса, причём в ещё более почётных обстоятельствах, поскольку тогда у них не было выбора, тогда как теперь наступление Архидама, возможно, можно было бы остановить уступками – губительными для афинского достоинства, но не угрожавшими безопасности Афин, лишённых былого могущества. Если такие предложения и выдвигались (вероятно, сторонниками партии, противостоявшей Периклу), они не нашли отклика среди страдающего населения.
Пробыв несколько дней под Эноей, так и не взяв крепость и не получив никакого ответа от афинян, Архидам двинулся дальше к Элевсину и Фриасийской равнине – примерно в середине июня, через восемьдесят дней после неожиданного захвата Платей. Его армия была неодолимой силой: по словам Плутарха, [232] она насчитывала не менее шестидесяти тысяч гоплитов, а по другим данным – до ста тысяч. Учитывая количество союзников, их воодушевление, краткость экспедиции и возможность грабежа, даже большее из этих чисел не кажется невероятным, если включить в него не только гоплитов, но и всадников, и легковооружённых. Однако Фукидид, хотя и подробно описывает этот поход, не приводит общей численности войска, вероятно, потому, что не нашёл достоверных данных. Поскольку афиняне не предпринимали шагов к миру, Архидам ожидал, что они выйдут ему навстречу на плодородной равнине Элевсина и Фрии, которую он первым делом начал опустошать. Но никаких афинских сил, кроме отряда конницы, разбитого в стычке у небольших озёр Рейты, так и не появилось. Разорив эту равнину без серьёзного сопротивления, Архидам не стал [стр. 131] двигаться по прямой дороге из Фрии, ведущей прямо к Афинам через хребет Эгалея, а свернул на запад, оставив гору справа, пока не достиг Кропеи, где пересёк часть Эгалея и вышел к Ахарнам. Здесь он находился примерно в семи милях от Афин, на склоне, спускающемся к равнине, простирающейся к западу и северо-западу от города, и был виден с городских стен. Здесь он разбил лагерь, сохраняя армию в полной боевой готовности, но одновременно намереваясь опустошить эту местность. Ахарны были самым крупным и населённым демом Аттики, выставлявшим в национальное ополчение не менее трёх тысяч гоплитов и процветавшим благодаря хлебу, виноградникам и оливковым рощам, а также обилию древесного угля, который жгли из соседних дубовых лесов. Более того, если верить Аристофану, ахарнские землевладельцы были не только крепкими «дубами», но и отличались особой горячностью и раздражительностью. [233] Это ярко иллюстрирует положение греческой территории во время вторжения: огромный дем, в котором должно было быть не менее двенадцати тысяч свободных жителей обоего пола и всех возрастов, плюс как минимум столько же рабов, оказался полностью покинутым. Архидам рассчитывал, что когда афиняне увидят его войска так близко от города, несущие огонь и меч их богатейшему району, их возмущение станет неконтролируемым, и они немедленно выйдут на битву. Особенно ахарнские землевладельцы, полагал он, будут в первых рядах, подстрекая остальных и требуя защиты своей собственности – или, если остальные граждане откажутся выступить с ними, они, оставшись беззащитными перед разорением, станут недовольными и равнодушными к общему благу. [234]
Хотя его расчёты не оправдались, они были основаны на вполне разумных предпосылках. То, чего ожидал Архидам, [стр. 132] чуть не произошло, и предотвратил это лишь предельно напряжённый личный авторитет Перикла. Пока вражеская армия действовала на Фриасийской равнине, афиняне ещё надеялись, что она, подобно Плейстоанаксу четырнадцать лет назад, не пойдёт дальше вглубь страны. Но когда она оказалась в Ахарнах, в виду городских стен, когда стали видны грабители, уничтожающие дома, плодовые деревья и посевы на равнине Афин – зрелище, незнакомое никому, кроме стариков, помнивших персидское нашествие, – возмущение граждан достигло невиданного накала. Сначала ахарнцы, а затем и молодёжь в целом неистово требовали вооружиться и выступить. Зная свою силу, но недооценивая силы врага, они были уверены в победе. Повсюду собирались группы граждан, [235] горячо обсуждая критическую ситуацию; распространялись пророчества и предсказания самого разного толка, многие из которых, несомненно, сулили успех в битве с врагом у Ахарн.
В таком раздраженном состоянии умов афинян Перикл, естественно, стал главным объектом жалоб и гнева. Его обвиняли как причину всех текущих страданий, поносили как труса за то, что он, будучи стратегом, не вел граждан на битву. Рациональные убеждения о необходимости войны и единственно возможных методах ее ведения, которые он заложил в своих многочисленных речах, казалось, были полностью забыты. [236] Эта вспышка стихийного недовольства, конечно, подогревалась многочисленными политическими противниками Перикла, особенно Клеоном, [237] который тогда начинал приобретать влияние как оратор оппозиции. Его талант к инвективе впервые проявился под покровительством аристократической партии [стр. 133] и возбужденной публики.