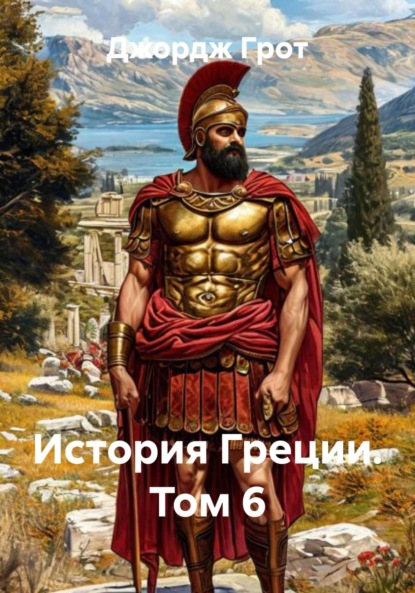- -
- 100%
- +
Но никакие проявления, сколь бы яростными они ни были, не могли поколебать ни рассудок, ни твердость Перикла. Он оставался невозмутим, слушая все обвинения в свой адрес, и решительно отказывался созывать народное собрание или любое иное официальное совещание, пока граждане пребывали в таком раздраженном состоянии. [238] По-видимому, он как стратег – или, точнее, коллегия десяти стратегов, в которую он входил, – обладал по закону не только правом созывать экклесию, когда считал нужным, но и правом предотвращать ее созыв [239] и даже откладывать регулярные заседания, которые обычно проводились в фиксированные сроки четыре раза в пританию. Таким образом, собрание не состоялось, и яростное возмущение народа не вылилось в какое-либо опрометчивое публичное решение.
То, что Перикл остался тверд перед этой бушующей силой, – лишь один из многих достойных аспектов его политического характера. Но гораздо удивительнее то, что его отказ созывать экклесию действительно предотвратил ее проведение. Вся масса афинян теперь находилась внутри стен, и если бы он отказался созывать собрание, они могли бы легко собраться на Пниксе без него – для чего в такой момент было бы нетрудно найти благовидное оправдание. Непоколебимое уважение, которое афинский народ проявил на этот раз к формам своей демократической конституции, – несомненно, поддержанное давним авторитетом Перикла, но противостоящее столь же сильному и всеобщему возбуждению и, казалось бы, разумному требованию созвать собрание для обсуждения, – остается одним из самых примечательных эпизодов в их истории.
Пока Перикл категорически запрещал выводить войско для генерального сражения, он старался занять сдерживаемый пыл граждан по мере возможностей. Конница [стр. 134] вместе с фессалийскими союзниками была отправлена для сдерживания набегов вражеской легкой пехоты и защиты окрестных земель от грабежа. [240] В то же время он снарядил мощную экспедицию, которая отплыла опустошать Пелопоннес, пока захватчики еще находились в Аттике. [241]
Архидам, пробыв в Ахарнах достаточно долго, чтобы убедиться, что афиняне не рискнут вступить в бой, повернул от Афин на северо-запад, к демам между горами Брилесс и Парнес, по дороге через Декелею. Войско продолжало опустошать эти земли, пока не иссякли припасы, после чего покинуло Аттику по северо-западной дороге близ Оропа, выйдя в Беотию. Оропии не были афинянами, но зависели от Афин, и область Грая, часть их территории, была разорена. После этого войско рассеялось и вернулось по домам. [242] Похоже, они покинули Аттику ближе к концу июля, пробыв в стране от тридцати до сорока дней.
Тем временем афинская экспедиция под командованием Каркина, Протея и Сократа, усиленная пятьюдесятью кораблями Керкиры и другими союзниками, обогнула Пелопоннес, высаживаясь в разных местах для нанесения урона, в том числе в Метоне (Модоне) на юго-западном полуострове Лакедемонской территории. [стр. 135] [243] Место, не укрепленное и слабо гарнизонированное, было бы легко взято, если бы Брасид, сын Теллия, – доблестный спартанец, впервые упомянутый здесь, но впоследствии достигший большой славы, – который случайно находился на соседнем посту, не бросился туда со ста воинами, опередив рассредоточенные афинские отряды. Он вдохнул в защитников такую храбрость, что все атаки были отбиты, и афиняне вынуждены были вернуться на корабли. Этот подвиг принес ему первые публичные почести, дарованные спартанцами в этой войне.
Продвигаясь на север вдоль западного побережья Пелопоннеса, афиняне снова высадились на берегу Элиды, южнее мыса Ихтис. Они опустошали территорию два дня, разбив как местные отряды, так и триста отборных воинов из центральной Элиды. Сильные ветра у безгаванного побережья заставили капитанов отплыть с большей частью войск вокруг мыса Ихтис, чтобы достичь гавани Феи на его северной стороне, в то время как мессенские гоплиты, двигаясь по суше через полуостров, атаковали и взяли Фею штурмом. Когда флот прибыл, все были снова погружены на корабли – вся сила Элиды уже шла на них. Затем они поплыли на север, высаживаясь в разных местах для грабежа, пока не достигли Соллия, коринфского поселения на побережье Акарнании. Они захватили этот город и передали его жителям соседнего акарнанского города Палера, а также Астак, откуда изгнали тирана Эварха и включили город в состав Афинского союза. Оттуда они переправились на Кефаллению, которую также удалось присоединить к союзникам Афин без сопротивления – с ее четырьмя отдельными городами (или округами): Палес, Крании, Сама и Пиона.
Все эти операции заняли около трех месяцев, начиная с июля, так что они вернулись в Афины ближе к концу сентября [244] – началу зимней половины года по хронологии Фукидида.
И это была не единственная морская экспедиция того лета: [стр. 136] ещё тридцать триер под командованием Клеопомпа были отправлены через Эврип к Локридскому побережью, напротив северной части Эвбеи. Были произведены высадки, в результате которых разграбили локридские города Фроний и Алопа, а также причинили дальнейшие опустошения. Кроме того, на необитаемом острове Аталанта, напротив Локриды, был размещён постоянный гарнизон и построено укрепление, чтобы сдерживать набеги каперов из Опунта и других локридских городов на Эвбею. [245]
Также было решено изгнать жителей Эгины с их острова и заселить его афинскими колонистами. Этот шаг отчасти был оправдан важным стратегическим положением острова на середине пути между Аттикой и Пелопоннесом. Однако не менее сильным мотивом, вероятно, было удовлетворение давней вражды и мести народу, который был одним из главных зачинщиков войны и причинил Афинам столько страданий. Эгинеты вместе с жёнами и детьми были погружены на корабли и высажены в Пелопоннесе – где спартанцы разрешили им занять прибрежную область и город Фирею, свою последнюю границу с Аргосом. Некоторые, впрочем, нашли приют в других частях Греции. Остров же был передан отряду афинских клерухов – граждан-землевладельцев, направленных туда по жребию. [246]
К страданиям эгинетов, которые впоследствии, как мы увидим, ещё более усугубились, добавились бедствия мегарцев. Оба этих народа были наиболее рьяными поджигателями войны, но ни на кого её тяготы не обрушились с такой силой. Вероятно, и те и другие разделяли преждевременную уверенность пелопоннесского союза в том, что Афины не продержатся больше года или двух, и потому не задумывались о своей беззащитности перед ними.
Ближе к концу сентября всё афинское войско, включая граждан и метеков, вторглось в Мегариду под командованием Перикла и опустошило большую часть территории. В это время сто кораблей, ранее обошедших Пелопоннес, на обратном пути прибыли к Эгине и вместо того, чтобы сразу вернуться домой, присоединились к своим соотечественникам [стр. 137] в Мегариде. Объединённые силы стали крупнейшим афинским войском, когда-либо собиравшимся в одном месте: десять тысяч граждан-гоплитов (не считая трёх тысяч, занятых осадой Потидеи) и три тысячи метеков-гоплитов, а также множество легковооружённых воинов. [247]
Против такой силы мегарцы, конечно, не могли устоять, и вся их территория вплоть до городских стен была опустошена. В течение нескольких лет войны афиняне повторяли это разорение раз, а иногда и дважды в год. В афинском экклесии даже был предложен (хотя, возможно, и не принят) декрет Харина, обязывающий стратегов при вступлении в должность клясться, что они дважды за год вторгнутся в Мегариду и разорят её. [248] Поскольку афиняне одновременно блокировали порт Нисею благодаря своему флоту и близости Саламина, лишения мегарцев стали крайне тяжёлыми. [249] У них уничтожали не только хлеб и плоды, но даже огородные растения вблизи города, и их положение порой напоминало осаждённый город, измученный голодом. Даже во времена Павсания, много веков спустя, вспоминали о страданиях мегарцев в те годы, объясняя этим, почему одна из их самых знаменитых статуй так и не была завершена. [250]
К этим военным операциям Афин летом того года следует добавить и другие важные меры. Фукидид также упоминает солнечное затмение, которое, согласно современным астрономическим расчётам, произошло 3 августа. [стр. 138] Если бы оно случилось тремя месяцами раньше, непосредственно перед вторжением пелопоннесцев в Аттику, его могли бы счесть дурным предзнаменованием и отложить поход.
Ожидая затяжной войны, афиняне приняли меры для постоянной защиты Аттики как на море, так и на суше. Подробности этих мер неизвестны, но одна из них была настолько примечательна, что удостоилась отдельного упоминания. Они выделили тысячу талантов из сокровищницы акрополя как неприкосновенный резерв, который нельзя было тратить ни на что, кроме одного случая: если вражеский флот будет угрожать городу, а других средств защиты не останется. Более того, они постановили, что любой гражданин, предложивший в народном собрании иное использование этих денег, или любой магистрат, поставивший такой вопрос на голосование, будет караться смертью. Также они решили ежегодно откладывать сто лучших триер с триерархами для их оснащения на тот же экстренный случай. [251]
Впрочем, вряд ли это последнее правило соблюдалось так же строго, как запрет трогать деньги. Резерв оставался неприкосновенным вплоть до двадцатого года войны, после всех катастроф сицилийской экспедиции и страшной вести о восстании Хиоса. Лишь тогда афиняне сначала отменили смертную казнь за предложение использовать эти средства, а затем пустили их на спасение государства. [252]
Принятое здесь решение о священном запасе и суровый приговор, запрещающий противоположные предложения, по словам мистера Митфорда, являются свидетельством неизгладимого варварства демократического правления. [253] Однако следует помнить, во-первых, что [стр. 139] смертный приговор был таковым, который едва ли мог быть приведен в исполнение; ведь ни один гражданин не был бы настолько безумен, чтобы выдвигать запрещенное предложение, пока этот закон оставался в силе. Тот, кто желал бы его выдвинуть, сначала предложил бы отменить запретительный закон, тем самым не подвергаясь никакой опасности, независимо от того, приняло бы собрание положительное или отрицательное решение; и если бы он добился положительного решения, то только тогда перешел бы к предложению о перераспределении фонда. Говоря языком английской парламентской процедуры, он сначала предложил бы приостановить или отменить постоянное постановление, запрещавшее предложение, а затем выдвинул бы само предложение: фактически именно таким образом и поступили, когда дело наконец было сделано. [254]
Но хотя смертный приговор едва ли мог вступить в силу, его провозглашение в качестве устрашающей меры имело вполне определенный смысл. Оно выражало глубокое и торжественное убеждение народа в важности своего собственного решения о резерве, предупреждало все будущие собрания и граждан об опасности его использования в других целях и окружало резерв искусственной святостью, вынуждая каждого, кто стремился к его перераспределению, начинать с предварительного предложения, уже самого по себе внушительного, как снимающего гарантию, которую прежние собрания считали чрезвычайно ценной, и открывающего дверь для ситуации, которую они рассматривали как предательскую. Провозглашение более мягкого наказания или простого запрета без каких-либо определенных санкций не выразило бы столь же сильного убеждения и не произвело бы такого же сдерживающего эффекта.
Собрание 431 г. до н.э. никак не могло принять законы, которые последующие собрания не смогли бы отменить; но оно могло так сформулировать свои постановления в особо важных случаях, чтобы сильно повлиять на суждения своих преемников и помешать им рассматривать предложения об отмене, за исключением случаев настоятельной и [стр. 140] очевидной необходимости.
Далеко не считая, что принятый в Афинах закон демонстрирует варварство – ни в цели, ни в средствах, – я нахожу его примечательным прежде всего благодаря его осторожному и дальновидному взгляду на будущее – качествам, совершенно противоположным варварству, – и достойным общего характера Перикла, который, вероятно, его предложил.
Афины как раз вступали в войну, которая грозила затянуться на неопределенный срок и обещала быть очень затратной. Предотвратить истощение накопленного фонда и заставить народ оставить что-то на крайний случай было чрезвычайно важно. Теперь же конкретный случай, который Перикл (если предположить, что он был автором предложения) назвал единственным условием использования этих тысячи талантов, в 431 г. до н.э. можно было считать наименее вероятным из всех возможных. Столь огромным было тогда превосходство афинского флота, что предположение о его поражении и о пелопоннесском флоте, плывущем к Пирею, было сценарием, на который мог обратить внимание лишь государственный деятель исключительной осторожности, и поистине удивительно, что народ в целом согласился его рассмотреть.
Однако, будучи зарезервированным для этой цели, фонд оставался доступным для любого другого чрезвычайного случая: и мы увидим, что его фактическое использование принесло Афинам неоценимую пользу в момент величайшей опасности, когда они едва ли смогли бы защититься без такого специального ресурса.
Народ вряд ли согласился бы на столь строгую экономию, если бы она не была предложена на столь раннем этапе войны, когда их доступный резерв был еще значительно больше: но навсегда останется в их пользу как их дальновидность, так и стойкость, что они сначала приняли такую предупредительную меру, а затем придерживались ее в течение девятнадцати лет, несмотря на серьезную нехватку денег, пока наконец не возник случай, сделавший дальнейшее воздержание действительно, а не условно, невозможным.
Демонстрация силы и месть путем высадки и разорения частей Пелопоннеса, несомненно, были важны для Афин в течение этого первого лета войны: хотя могло показаться, что силы, использованные для этого, были в не меньшей степени необходимы для завоевания Потидеи, которая все еще оставалась в осаде, – и соседних фракийских халкидян, все еще восставших.
В течение этого лета перед Афинами открылась перспектива покорения этих городов с помощью Ситалка, царя одрисских фракийцев. [стр. 141] Этот правитель женился на сестре нимфодора, гражданина Абдеры, который обязался сделать его и его сына Садока союзниками Афин. Вызванный в Афины и назначенный проксеном Афин в Абдере (одном из подчиненных Афинам союзных городов), Нимфодор заключил этот союз и пообещал от имени Ситалка, что будет отправлено достаточное фракийское войско для помощи Афинам в возврате восставших городов: одновременно Садоку было даровано афинское гражданство. [255]
Нимфодор также способствовал налаживанию добрых отношений между Пердиккой Македонским и афинянами, которых убедили вернуть ему Ферму, ранее у него отнятую. Таким образом, афиняне получили обещание мощной поддержки против халкидян и потидейцев: однако последние все еще держались, и перспективы их скорой сдачи не было.
Более того, город Астак в Акарнании, захваченный афинянами летом во время их экспедиции вокруг Пелопоннеса, осенью был отбит свергнутым тираном Эвархом при поддержке сорока коринфских триер и тысячи гоплитов. Это коринфское войско, восстановив Эварха, совершило несколько неудачных нападений как на другие части Акарнании, так и на остров Кефаллению: в последнем случае они попали в засаду и были вынуждены вернуться домой с немалыми потерями. [256]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.