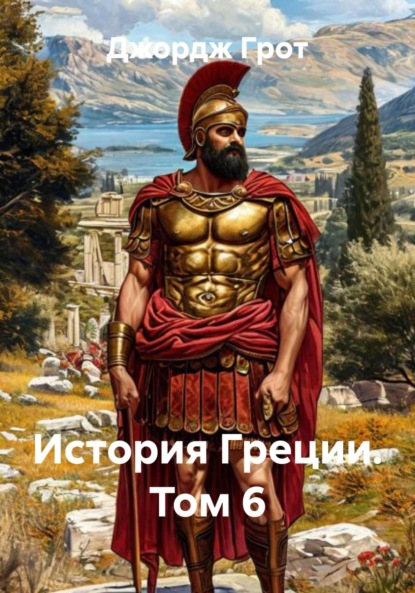- -
- 100%
- +
Общий доход Афин [8] из всех источников, включая дань, в начале Пелопоннесской войны, по словам Ксенофонта, составлял тысячу талантов: таможенные, портовые и рыночные сборы, поступления от серебряных рудников в Лаврии, арендная плата за общественную собственность, штрафы по судебным решениям, подушный налог на рабов, ежегодные выплаты метеков и т. д. могли составить более четырехсот талантов, что в сумме с шестьюстами талантами дани давало указанную Ксенофонтом цифру.
Однако стих Аристофана, [9] относящийся к девятому году Пелопоннесской войны (422 г. до н. э.), дает общую сумму доходов как «почти две тысячи талантов»: [стр. 6] это, скорее всего, сильно преувеличено, хотя можно предположить, что размер дани, взимаемой с союзников, за эти годы мог увеличиться.
Я считаю, что заявленное удвоение дани Алкивиадом, о котором Фукидид не упоминает, не подтверждается надежными доказательствами, и не верю, что она когда-либо достигала суммы в двенадцатьсот талантов. [10]
Каков бы ни был реальный размер афинского бюджета [стр. 7] перед Пелопоннесской войной, мы знаем, что в течение большей части правления Пери [стр. 8] кла доходы, включая дань, управлялись так, что оставался значительный ежегодный профицит.
В результате в акрополе в годы, предшествовавшие Пелопоннесской войне, скопился запас монет – который в момент своего максимума достиг огромной суммы в девять тысяч семьсот талантов (эквивалентно двум миллионам двести тридцати тысячам фунтов) и даже после серьезных трат на различные нужды к началу войны составлял шесть тысяч талантов. [11]
Эта система государственной экономики, предполагавшая постоянное откладывание значительных сумм из года в год – в которой Афины были уникальны, поскольку ни одно из пелопоннесских государств не имело никаких резервов, [12] – сама по себе во многом оправдывает Перикла от обвинений в растрате государственных средств на популистские раздачи, а также снимает с афинского демоса упрек в жадном стремлении жить за счет общественной казны, который ему часто приписывают.
После смерти Кимона походы против персов больше не предпринимались, да и за несколько лет до его кончины активность была невелика, так что дань оставалась неиспользованной, хотя Афины были обязаны держать ее в резерве на случай будущих атак, которые могли возобновиться в любой момент.
Хотя мы не знаем точного размера других источников дохода Афин, нам известно, что дань, получаемая от союзников, была безусловно крупнейшей статьёй в нём. [13] В целом, осуществление власти над империей за рубежом стало важной чертой афинской жизни и необходимостью для афинского самосознания – не менее важной, чем демократия внутри полиса. Афины больше не были, как прежде, единым городом с Аттикой в качестве своей территории: они стали столичным или имперским городом – «городом-тираном», как выражались их враги, а порой и сами граждане [14] – с множеством зависимых территорий, обязанных подчиняться её приказам. Именно так воспринимали достоинство Афин не только Перикл и другие ведущие государственные деятели, но даже самые простые граждане; это чувство сочеталось с личной гордостью и стимулом к активному патриотизму.
Укрепление афинских интересов на зависимых территориях было одной из важных целей Перикла. Хотя он избегал далёких [15] и рискованных предприятий, таких как вторжения в Египет или на Кипр, он основал множество клерухий и колоний афинских граждан, смешанных с союзниками, на островах и прибрежных территориях. Он переселил тысячу граждан на Херсонес Фракийский, пятьсот – на Наксос и двести пятьдесят – на Андрос. На Херсонесе он также отразил набеги варварских фракийцев извне и даже предпринял труд по возведению защитной стены через перешеек, соединяющий полуостров с Фракией, поскольку варварские фракийские племена, хотя и были изгнаны ранее Кимоном, [16] продолжали время от времени возобновлять свои набеги.
Со времён заселения территории старшим Мильтиадом около восьмидесяти лет назад на этом полуострове проживало множество афинских землевладельцев, по-видимому, смешанных с полуцивилизованными фракийцами. Теперь переселенцы получили как численное превосходство, так и лучшую защиту, хотя нет свидетельств, что поперечная стена сохранялась надолго. Морские экспедиции Перикла доходили даже до Понта Эвксинского, включая важный греческий город Синопу, которым в то время правил тиран Тимисилай, против которого выступала значительная часть граждан. Перикл оставил Ламаха с тринадцатью афинскими триремами, чтобы помочь изгнать тирана, который был вынужден бежать вместе со своими сторонниками. Имущество изгнанных было конфисковано и передано на содержание шестисот афинских граждан, получивших равные права и проживание среди синопцев.
Можно предположить, что в этот период Синопа вошла в состав афинского союза платящих дань, если не была его членом ранее. Однако неизвестно, существовали ли во времена Перикла Котиора и Трапезунд – зависимые от Синопы территории восточнее, которые десять тысяч греков обнаружили во время своего отступления пятьдесят лет спустя. Кроме того, многочисленный и хорошо оснащённый афинский флот под командованием Перикла произвёл впечатление на варварских правителей и племена вдоль побережья, [17] что, несомненно, способствовало безопасности греческой торговли и, вероятно, приобретению новых зависимых союзников.
Именно благодаря подобным последовательным действиям множество афинских граждан расселилось в различных частях морской империи города – одни богатые, вкладывая средства в островную собственность как более безопасную (благодаря неоспоримому морскому превосходству Афин), чем даже Аттика, которая после потери Мегариды не могла быть защищена от вторжения с Пелопоннеса; [18] другие – бедные, нанимаясь на работу. [19] Острова Лемнос, Имброс и Скирос, а также территория Эстиеи на севере Эвбеи, были полностью заселены афинскими землевладельцами и гражданами – другие места частично. И, несомненно, островитянам было выгодно сотрудничать с афинянами в торговых предприятиях, поскольку это повышало их шансы на защиту афинского флота.
Похоже, Афины время от времени устанавливали правила торговли для своих зависимых союзников, о чём свидетельствует факт, что незадолго до Пелопоннесской войны они закрыли для мегарцев все свои порты. Торговые отношения между Пиреем и Эгейским морем достигли своего пика в период, непосредственно предшествовавший Пелопоннесской войне. Эти связи не ограничивались регионами к востоку и северу от Аттики – они распространялись и на западные территории. Важнейшими поселениями, основанными Афинами в этот период, были Амфиполь во Фракии и Фурии в Италии.
Амфиполь был основан колонией афинян и других греков под предводительством афинянина Агнона в 437 г. до н. э. Он располагался во Фракии, близ реки Стримон, на её восточном берегу, в том месте, где река возобновляет своё течение после выхода из вышележащего озера. Изначально это было поселение эдонских фракийцев, называвшееся Эннея [стр. 12] Ходой, или Девять Путей, – в чрезвычайно выгодном положении, как из-за близости к мосту через Стримон, так и благодаря удобству для торговли корабельным лесом, золотом и серебром из соседних рудников. Оно находилось примерно в трёх английских милях от афинского поселения Эйон при устье реки. Предыдущие неудачные попытки закрепиться в Эннея Ходой уже упоминались – сначала попытка Милетянина Гистиея, продолженная его братом Аристагором (около 497–496 гг. до н.э.), затем афинян около 465 г. до н.э. под руководством Леагра и других. В обоих случаях поселенцы были разбиты и изгнаны местными фракийскими племенами, хотя во втором случае афиняне отправили не менее десяти тысяч человек. [20]
Эта серьёзная потеря надолго отпугнула афинян от повторных попыток, хотя весьма вероятно, что отдельные граждане из Эйона и Фасоса устанавливали связи с влиятельными фракийскими семьями и таким образом активно занимались добычей полезных ископаемых, извлекая для себя немалую выгоду – а также и для города в целом, поскольку имущество клерухов (афинских граждан, владевших колониальными землями) учитывалось при взимании прямых налогов с афинского имущества вообще. Среди таких удачливых предпринимателей можно назвать и самого историка Фукидида, по-видимому, происходившего от смешанных браков афинян с фракийцами и женатого либо на фракийке, либо на представительнице семьи афинских колонистов в этом регионе, благодаря чему он получил во владение обширные рудники и значительное влияние в окрестных землях. [21] Это был один из способов, благодаря которым коллективная мощь Афин позволяла её видным гражданам обогащаться в частном порядке. [стр. 13]
Колония под руководством Агнона, отправленная из Афин в 437 г. до н.э., оказалась многочисленной и хорошо обеспеченной, поскольку смогла завоевать и удержать стратегически важную позицию Эннея Ходой, несмотря на сопротивление воинственных эдонцев, сорвавших две предыдущие попытки. Название Эннея Ходой было заменено на Амфиполь – холм, на котором стоял новый город, был окружён рекой с трёх сторон. Поселенцы, по-видимому, были смешанного происхождения, с небольшой долей афинян: среди них были как халкидяне, так и выходцы из Аргила – греческого города, колонизированного Андросом, который владел землями на западном берегу Стримона, прямо напротив Амфиполя, [22] и входил в число подвластных Афинам союзников. Амфиполь, связанный с морем через Стримон и порт Эйон, стал важнейшим афинским владением во Фракии и Македонии.
Колония Фурии на побережье Тарентского залива в Италии, близ места древнего Сибариса, была основана Афинами примерно на семь лет раньше Амфиполя, вскоре после заключения Тридцатилетнего мира со Спартой (443 г. до н.э.). После разрушения старого Сибариса кротонцами в 509 г. до н.э. его земли большей частью оставались незаселёнными. Потомки прежних жителей, рассеянные по Лаосу и другим частям территории, не имели сил основать новый город, да и кротонцы не стремились к этому. Однако спустя более шестидесяти лет, после одной неудачной попытки заселения фессалийцами, сибариты наконец убедили афинян взять на себя организацию новой колонии под их защитой – аналогичное предложение спартанцы отвергли. Лампон и Ксенокрит (первый – прорицатель и толкователь оракулов) были отправлены Периклом во главе десяти кораблей как руководители новой колонии Фурии, основанной под эгидой Афин. Поселенцы прибыли со всей Греции, включая дорийцев, ионийцев, островитян, беотийцев и афинян. Однако потомки древних сибаритов добились для себя привилегированного статуса, монополизировав политическую власть и лучшие земли вблизи городских стен, а их жёны заняли надменное положение над остальными женщинами города в общественных религиозных процессиях. Подобный дух привилегий часто проявлялся в древних колониях и нередко приводил либо к утрате стабильности, либо к упадку, а иногда – и к тому, и к другому. В случае Фурий, основанных под покровительством демократических Афин, это вряд ли могло длиться долго: вскоре большинство колонистов восстало против привилегированных сибаритов, часть из них перебило, остальных изгнало, а всю территорию города поделило поровну между поселенцами всех народов. Эта революция позволила им помириться с кротонцами, которые, вероятно, относились к ним враждебно, пока у власти оставались их старые враги – сибариты, способные использовать силы города для мести за поражение предков. С этого момента город, управляемый демократически, процветал без внутренних раздоров около тридцати лет, пока катастрофическое поражение афинян под Сиракузами не привело к свержению афинской партии в Фуриях.
О пёстром составе населения Фурий можно судить по названиям десяти фил (по афинскому образцу): Аркас, Ахаис, Элея, Беотия, Амфиктиония, Дорида, Иада, Атенаида, Эвбоида, Несиотида. Из-за такого смешения народов они не могли договориться о почитании афинского ойкиста (основателя) – да и вообще никого, кроме Аполлона. [23] Спартанский полководец Клеандрид, изгнанный несколькими годами ранее за взятие взятки от Афин вместе с царём Плейстоанаксом, переселился в Фурии и был назначен стратегом в войне против Тарента. В итоге конфликт был урегулирован совместным основанием нового города Гераклеи на плодородной земле Сиритиды, на полпути между двумя государствами. [24]
Самый интересный факт о Фуриях заключается в том, что [с. 15] оратор Лисий и историк Геродот были там поселены как граждане. Город был связан с Афинами, но, по-видимому, лишь слабой связью; он также не входил в число подчинённых данников. [25] Учитывая, что значительная часть поселенцев в Фуриях не были коренными афинянами, можно предположить, что в то время немногие из последних были готовы так далеко оторваться от Афин – даже несмотря на соблазн получить земельные наделы в плодородной и перспективной области. И Перикл, вероятно, был заинтересован в том, чтобы бедные граждане, для которых эмиграция была желательна, становились клерухами на каких-нибудь островах или в портах Эгейского моря, где они служили бы – подобно римским колониям – своего рода гарнизоном для укрепления Афинской империи. [26]
Четырнадцать лет между Тридцатилетним миром и началом Пелопоннесской войны стали периодом полного морского господства Афин – хотя и встречавшего частичное сопротивление, но безуспешное. Это было время мира со всеми городами за пределами их империи, а также периодом великолепного украшения самого города благодаря гению Фидия и других мастеров, проявивших себя как в скульптуре, так и в архитектуре. После смерти Кимона Перикл становился всё более влиятельным гражданином в государстве: чем дольше его знали, тем больше ценили его качества, и даже катастрофические неудачи, предшествовавшие Тридцатилетнему миру, не поколебали его позиций, поскольку он выступал против похода Толмида в Беотию, из которого эти неудачи и возникли.
Но если личное влияние Перикла возросло, то и оппозиция против него, по-видимому, стала сильнее и организованнее, чем прежде, обретя лидера, во многих отношениях более эффективного, чем Кимон, – Фукидида, сына Мелесия. Новый лидер был близким родственником Кимона, но обладал характером и талантами, более схожими с Периклом: он был государственным деятелем и оратором [с. 16], а не полководцем, хотя и мог исполнять обе функции, если требовалось, как и подобало любому ведущему политику того времени. Под руководством Фукидида политическая и парламентская оппозиция Периклу приобрела постоянный характер и организацию, которые Кимон со своими исключительно военными способностями никогда не смог бы создать. Аристократическая партия в государстве – «благородные и почтенные» граждане, как они сами себя называли – теперь обязалась неукоснительно посещать народное собрание, заседая отдельной группой, чтобы явно отличаться от демоса. Таким образом, их аплодисменты и возражения, взаимная поддержка и распределение ролей между ораторами стали более эффективными для партийных целей, чем прежде, когда эти видные граждане смешивались с общей массой. [27]
Сам Фукидид был выдающимся оратором, уступая лишь Периклу – а возможно, и не уступая ему вовсе. Сообщается, что когда Архидам спросил его, кто лучше в борьбе – он или Перикл, Фукидид ответил: «Даже когда я бросаю его, он отрицает, что упал, добивается своего и убеждает тех, кто видел его падение». [28]
Такая оппозиция, действовавшая против Перикла в рамках дозволенного демократической конституцией, должна была быть и эффективной, и досаждающей. Но резкое отделение аристократических лидеров, введённое Фукидидом, сыном Мелесия, вероятно, одновременно сплотило демократическое большинство вокруг Перикла и усилило ожесточённость партийной борьбы. [29] Насколько можно судить, [с. 17] оппозиция основывалась отчасти на мирной политике Перикла по отношению к персам, отчасти на его тратах на украшение города. Фукидид утверждал, что Афины опозорили себя в глазах греков, переведя союзную казну с Делоса на свой акрополь под предлогом большей безопасности, а затем используя её не для войны против персов, [30] а для украшения Афин новыми храмами и дорогими статуями.
На это Перикл отвечал, что Афины взяли на себя обязательство защищать союзников и оберегать их от любых внешних врагов в обмен на дань – и полностью выполнили эту задачу, сохранив достаточный резерв для будущей безопасности. Поэтому, говорил он, Афины не обязаны отчитываться перед союзниками за расходование излишков и вправе тратить их на цели, полезные и почётные для города. С этой точки зрения, укрепление Афин, накопление архитектурных и скульптурных украшений, а также проведение пышных религиозных празднеств с музыкой и поэзией имело большое государственное значение, повышая престиж города в глазах как союзников, так и всей Эллады.
Таков был ответ Перикла на критику со стороны Фукидида и его сторонников. И, насколько можно судить, этот ответ был вполне убедителен. Учитывая крупные суммы, которые Перикл постоянно держал в резерве, никто не мог разумно утверждать, что расходы на украшение города ставили под угрозу обороноспособность. Фукидид и его партия, по-видимому, настаивали на том, чтобы эти средства по-прежнему [с. 18] тратились на агрессивную войну против персидского царя в Египте и других местах – в духе политики, которую вёл при жизни Кимон. [31]
Но Перикл был прав, утверждая, что такие расходы были бы просто расточительством: бесполезным как для Афин, так и для союзников, но несущим риск поражения вдали от дома, как это уже случилось несколькими годами ранее в Египте. Персидские силы уже были изгнаны как из вод Эгейского моря, так и с побережья Малой Азии – будь то по условиям Каллиева мира или (если считать этот договор недостоверным) благодаря политике, фактически соответствующей его требованиям.
Союзники, конечно, могли бы упрекнуть Перикла за то, что он не снизил размер дани, которая превышала необходимые для союза расходы, или за то, что не учитывал их мнение при её распределении. Но, судя по всему, этот аргумент не использовался Фукидидом и его сторонниками – да он вряд ли нашёл бы поддержку ни у аристократов, ни у демократов в афинском народном собрании.
Признавая несправедливость Афин – несправедливость, общую для обеих партий в этом городе, в равной степени присущую как Кимону, так и Периклу, – которые действовали как деспоты, а не как лидеры, и отказались от всякого обращения к активному и искреннему единодушию своих многочисленных союзников, мы обнаружим, что планы Перикла в то же время были в высшей степени общеэллинскими. Укрепляя и украшая Афины, развивая полную активность своих граждан, создавая храмы, религиозные дары, произведения искусства, торжественные празднества, все – непревзойденной привлекательности, – он стремился возвысить их до чего-то большего, чем просто имперский город с множеством зависимых союзников. Он хотел сделать их центром эллинского чувства, стимулом эллинского интеллекта и образцом сильного демократического патриотизма, сочетающегося с полной свободой личного вкуса и стремлений. Он хотел не просто сохранить верность подчиненных государств, но и привлечь восхищение и добровольное уважение независимых соседей, чтобы обеспечить Афинам моральное превосходство, выходящее далеко за пределы их непосредственной власти. И ему удалось возвысить город до [с. 19] видимого величия, [32] которое заставляло его казаться даже гораздо более сильным, чем он был на самом деле, – и которое, кроме того, смягчало для подданных унизительное чувство повиновения; в то же время оно служило образцовой школой, открытой для чужеземцев со всех сторон, энергичной деятельности даже при полной свободе критики, – изысканных занятий, осуществляемых экономно, – и любви к знанию без изнеженности характера. Таковы были взгляды Перикла на свою страну в годы, предшествовавшие Пелопоннесской войне, как мы находим их изложенными в его знаменитой Надгробной речи, произнесенной в первый год этой войны, – навсегда памятном изложении духа и цели афинской демократии, какими их представлял ее способнейший руководитель.
Однако оппозиция, которую Фукидид и его партия оказывали этим запланированным расходам, была настолько ожесточенной, а раскол между аристократами и демократами стал настолько яростным и острым, что вскоре спор дошел до крайней меры, предусмотренной афинской конституцией для случая противостояния двух почти равных по силе партийных лидеров, – остракизма. О конкретных деталях, предшествовавших этому остракизму, нам ничего не известно; но мы ясно видим, что общая ситуация была именно такой, для разрешения которой и предназначался остракизм. Вероятно, голосование было предложено партией Фукидида, чтобы добиться изгнания Перикла, более влиятельного из двух и более способного вызвать народную зависть. Вызов был принят Периклом и его сторонниками, и результатом голосования стало то, что достаточное законное большинство приговорило Фукидида к остракизму. [33] И, по-видимому, большинство должно было быть очень решительным, поскольку партия Фукидида была полностью сломлена этим: и в течение всей оставшейся жизни Перикла мы не слышим ни об одном другом лидере оппозиции, столь же опасном. [с. 20]
Остракизм Фукидида, по-видимому, произошел примерно через два года [34] после заключения Тридцатилетнего мира, – в 443–442 гг. до н. э., – и к периоду, непосредственно последовавшему за этим, относятся великие перикловы строения. Южная стена акрополя была возведена на добычу, привезенную Кимоном из его персидских походов; но третья из Длинных стен, соединявших Афины с гаванью, была предложена Периклом, хотя точное время нам неизвестно. Первоначально завершенные Длинные стены – вскоре после битвы при Танагре, как уже упоминалось, – были две: одна от Афин до Пирея, другая от Афин до Фалерона. Пространство между ними было широким, и если бы оно оказалось в руках врага, сообщение с Пиреем было бы прервано. Соответственно, Перикл теперь убедил народ построить третью, или промежуточную, стену, параллельную первой стене до Пирея и на небольшом расстоянии [35] – по-видимому, около одного стадия – от нее: так что сообщение между городом и портом стало полностью бесперебойным, даже если бы враг проник внутрь Фалерской стены. По-видимому, примерно в это же время были построены великолепные доки и арсенал в Пирее, на которые, по словам Исократа, было потрачено тысяча талантов: [36] в то время как сам город Пирей был заново распланирован с прямыми улицами, пересекающимися под прямым углом. По-видимому, это было новшеством в Греции, – города в целом, и сами Афины в частности, строились без какой-либо симметрии, ширины или непрерывности улиц: [37] и Гипподам Милетский, человек с considerable attainments in the physical philosophy of the age, стяжал немалую славу как первый градостроитель, разработавший регулярный план Пирея. [с. 21] Рыночная площадь, или по крайней мере одна из них, навсегда сохранила его имя – Гипподамова агора. [38] В то время, когда столь многие великие архитекторы демонстрировали свой гений в строительстве храмов, нас не удивляет, что и структура городов начала упорядочиваться: более того, нам говорят, что новый колониальный город Фурии, куда Гипподам отправился как поселенец, также был построен с такой же системой прямых и широких улиц. [39]
Новая схема, по которой был заложен Пирей, имела свою ценность как одно из наглядных доказательств морского величия Афин. Однако настоящей славой эпохи Перикла стали здания в Афинах и на акрополе.
Был построен новый театр, названный Одеоном, для музыкальных и поэтических представлений во время Великих Панафиней; затем – великолепный храм Афины, известный как Парфенон, со всеми его шедеврами декоративной скульптуры и рельефов; наконец, роскошные ворота, украсившие вход на акрополь с западной стороны холма, через которые проходили торжественные процессии в праздничные дни.
Похоже, что Одеон и Парфенон были завершены между 445 и 437 гг. до н. э., а Пропилеи – несколько позже, между 437 и 431 гг. до н. э., в последнем из которых началась Пелопоннесская война. [40]
Также велись работы по восстановлению или перестройке Эрехтейона, древнего храма Афины Полиады, покровительницы города, – сожжённого во время нашествия Ксеркса. Однако начало Пелопоннесской войны, по-видимому, помешало завершению не только его, но и великого храма Деметры в Элевсине для празднования Элевсинских мистерий, храма Афины на мысе Сунион и храма Немесиды в Рамнунте.
Скульптура была не менее примечательна, чем архитектура: три статуи Афины, все работы Фидия, украшали акрополь – одна колоссальная, высотой в 47 футов, из слоновой кости, в Парфеноне, [41] вторая – бронзовая, называемая Лемносской Афиной, [стр. 22] третья – также колоссальных размеров, бронзовая, известная как Афина Промахос, стоявшая между Пропилеями и Парфеноном и видимая издалека, даже мореплавателям, приближавшимся к Пирею.
Конечно, слава этих великолепных произведений искусства принадлежит не Периклу, но великие скульпторы и архитекторы, создавшие их, были частью той же эпохи расцвета афинской демократии, которая породила подобный творческий гений в ораторском искусстве, драматической поэзии и философской мысли.