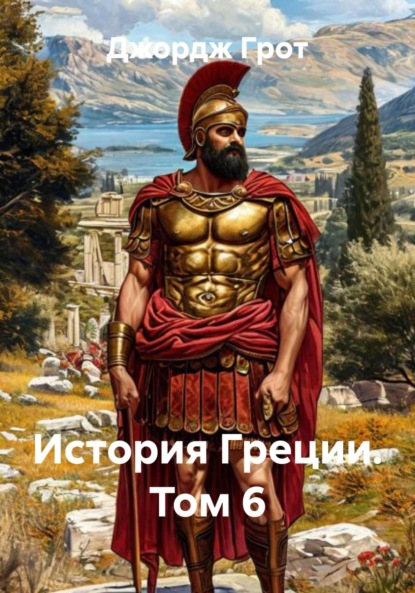- -
- 100%
- +
Особо выделяется один человек, чьё имя бессмертно – Фидий, родившийся незадолго до Марафонской битвы. Он был первооткрывателем, в чьих работах возвышенные идеалы подлинного искусства освободились от жёсткости исполнения и приверженности освящённым традициям, характерных для его предшественников. [42]
Фидий был главным руководителем и надзирателем всех тех декоративных дополнений, благодаря которым Перикл придал Афинам величие, невиданное ранее ни в одном греческом городе: архитекторы Парфенона и других зданий – Иктин, Калликрат, Короиб, Мнесикл и другие – работали под его началом. Кроме того, у него была школа учеников и помощников, которым доверяли техническую часть работы.
Несмотря на все грандиозные вклады Фидия в украшение Афин, его последним и величайшим творением стала работа за пределами города – колоссальная статуя Зевса в великом храме Олимпии, созданная в годы, непосредственно предшествовавшие Пелопоннесской войне.
Эффект, который это грандиозное произведение (60 футов в высоту, из слоновой кости и золота, воплощающее в зримом величии величайшие образы греческой поэзии и религии) производил на зрителей на протяжении многих веков, был таким, какого никогда ранее не было и, вероятно, никогда больше не будет в истории искусства – ни в священном, ни в светском.
Если рассматривать эти невероятные достижения в области искусства только в контексте афинской и греческой истории, они [стр. 23] представляют собой явления исключительной важности.
Когда мы читаем о глубоком впечатлении, которое они произвели на греческих зрителей более поздних эпох, можно представить, насколько огромным было их влияние на поколение, видевшее и начало, и завершение этих работ.
В 480 г. до н. э. Афины были разрушены войсками Ксеркса. С тех пор греки увидели:
– сначала – восстановление и укрепление города в расширенных масштабах,
– затем – добавление Пирея с его доками и складами,
– далее – соединение двух городов Длинными стенами, что создало наиболее многочисленное и концентрированное население, богатство, вооружение, корабли и т. д. во всей Греции, [43]
– наконец – стремительное создание стольких новых чудес искусства: скульптур Фидия, а также картин фасосского живописца Полигнота в храме Тесея и в портике, называемом Пестрой стоей.
Плутарх отмечает, [44] что самой примечательной чертой этих работ была скорость их завершения – и это, вероятно, сильнее всего поражало современников.
Гигантские шаги, которыми Афины достигли своей морской империи, теперь немедленно сменились чередой творений, которые утвердили их как имперский город Греции, придали им вид могущества, превосходящего действительность, и особенно посрамили старомодную простоту Спарты. [45]
Стоимость, без сомнения, была колоссальной и могла быть покрыта только в то время, когда в акрополе находилась большая казна, а также поступала значительная ежегодная дань: если верить расчетам, которые кажутся основанными на правдоподобных данных, общая сумма не могла быть намного меньше трех тысяч талантов – около шестисот девяноста тысяч фунтов. [стр. 24] [46] Расход такой крупной суммы, конечно же, стал источником значительной частной выгоды для подрядчиков, торговцев, ремесленников различных специальностей и других, причастных к этому: так или иначе, она распределилась по значительной части города. И, по-видимому, материалы, использованные для большей части работ, были намеренно выбраны из самых дорогих, как наиболее соответствующие благоговению перед богами: мрамор был отвергнут как слишком обычный для статуи Афины, и вместо него использовали слоновую кость; [47] золото же, которым она была покрыта, весило не менее сорока талантов. [48]
Большие расходы на такие цели, считавшиеся благочестивыми по отношению к богам, одновременно производили впечатление в соответствии с греческими представлениями, которые восхищались всякого рода публичными зрелищами и великолепием и вознаграждали богатых людей, предававшихся этому, благодарным уважением. Перикл хорошо понимал, что видимое великолепие города, столь новое для его современников, заставит её реальную мощь казаться ещё больше, чем она была на самом деле, и тем самым обеспечит ей реальное, хотя и непризнанное влияние – возможно, даже преобладание – над всеми городами греческого мира. И несомненно, что даже среди тех, кто ненавидел и боялся её больше всего при начале Пелопоннесской войны, существовало сильное чувство непроизвольного уважения.
Шаг, предпринятый Периклом, по-видимому, вскоре после начала Тридцатилетнего перемирия, показывает, насколько это преобладание было его прямой целью и насколько он связывал его с идеями гармонии и пользы для Греции в целом. Он убедил народ отправить послов во все города греческого мира, большие и малые, приглашая каждого назначить делегатов для конгресса, который должен был состояться в Афинах. В этом предполагаемом конгрессе должны были обсуждаться три вопроса:
1. Восстановление храмов, сожженных персидскими захватчиками.
2. Исполнение обетов, данных в то время богам.
3. Безопасность моря и морской торговли для всех.
Двадцать пожилых афинян были отправлены [стр. 25], чтобы добиться созыва этого конгресса в Афинах – общегреческого конгресса для общегреческих целей. Но те, кто отправился в Беотию и Пелопоннес, полностью потерпели неудачу из-за ревности Спарты и её союзников, что вовсе не удивительно; о других мы ничего не слышим, так как этот отказ был достаточен, чтобы сорвать весь план. [49] Стоит отметить, что зависимые союзники Афин, по-видимому, были приглашены так же, как и полностью автономные города, так что их даннические отношения с Афинами не считались унизительными. Можно искренне сожалеть, что такой конгресс не состоялся, так как он мог бы открыть новые возможности для сближения и союза разрозненных частей греческого мира – всеобъемлющую пользу, к которой Спарта была одновременно неспособна и равнодушна, но которая, возможно, могла бы быть реализована под руководством Афин и, судя по всему, искренне преследовалась Периклом. Однако события Пелопоннесской войны похоронили все надежды на такое объединение.
Четырнадцатилетний промежуток между началом Тридцатилетнего перемирия и началом Пелопоннесской войны отнюдь не был для Афин временем беспрерывного мира. На шестой год этого периода произошло грозное восстание Самоса.
Этот остров, по-видимому, был самым могущественным из всех союзников Афин, [50] – даже более могущественным, чем Хиос или Лесбос, и находился на том же положении, что и последние; то есть он не платил дани – привилегия по сравнению с большинством союзников, – но поставлял корабли и людей, когда это требовалось, и сохранял, при этом условии, полную автономию, олигархическое правление, свои укрепления и военные силы. Как и большинство других островов у побережья, Самос [стр. 26] владел частью территории на материке, между которой и территорией Милета находился небольшой город Приена, один из двенадцати первоначальных членов, участвовавших в Панионийских празднествах. Из-за владения этим городом Приеной между самосцами и милетцами вспыхнула война на шестой год Тридцатилетнего перемирия (440–439 гг. до н. э.): был ли город до этого независимым, мы не знаем, но в этой войне милетцы потерпели поражение, и он перешел в руки самосцев. Потерпевшие поражение милетцы, будучи данниками Афин, пожаловались на действия самосцев, и их жалобу поддержала партия на самом Самосе, выступавшая против олигархии и её действий. Афиняне потребовали, чтобы спорящие города передали дело на рассмотрение и решение в Афинах, но самосцы отказались подчиниться: [51] тогда из Афин была отправлена эскадра из сорока кораблей, которая установила на острове демократическое правление; оставив там гарнизон и увезя на Лемнос пятьдесят человек и столько же мальчиков из главных олигархических семей в качестве заложников. Однако часть этих семей бежала на материк, где вступила в переговоры с Писифном, сатрапом Сард, чтобы получить помощь и восстановить свою власть. Получив от него семьсот наемников и переправившись ночью на остров по предварительному сговору с олигархической партией, они одолели самосскую демократию, а также афинский гарнизон, который был отправлен в качестве пленников к Писифну. Им также удалось тайно вывезти с Лемноса своих недавно оставленных там заложников, после чего они открыто объявили о восстании против Афин, к которому присоединилась и Византия. Кажется удивительным, что, хотя такие действия неизбежно должны были навлечь на них всю мощь Афин, их первым шагом стало возобновление агрессивных действий против Милета, [52] куда они отправились с мощным флотом из семидесяти кораблей, двадцать из которых перевозили войска. [стр. 27]
Немедленно по получении этого тревожного известия флот из шестидесяти триер – вероятно, всех, что были в полной готовности, – был отправлен на Самос под командованием десяти стратегов, двое из которых были сам Перикл и поэт Софокл, [53] оба, по-видимому, входившие в число десяти обычных стратегов того года. Однако шестнадцать из этих кораблей пришлось задействовать частично для сбора контингентов с Хиоса и Лесбоса, на которые лично отправился Софокл; [54] частично для наблюдения у побережья Карии за приближением финикийского флота, о котором сообщали слухи. В результате у Перикла осталось лишь сорок четыре корабля. Тем не менее, он без колебаний атаковал самосский флот из семидесяти кораблей, возвращавшийся из Милета, у острова Трагия и одержал победу в этом сражении.
Вскоре он получил подкрепление: сорок кораблей из Афин и двадцать пять с Хиоса и Лесбоса, что позволило ему высадиться на Самосе. Там он разгромил сухопутные силы самосцев, заблокировал гавань частью своего флота и окружил город с суши тройной стеной. Тем временем самосцы отправили Стесагора с пятью кораблями, чтобы ускорить прибытие финикийского флота, и слухи об их приближении вновь стали настолько сильны, что Перикл вынужден был взять шестьдесят кораблей из общего числа ста двадцати пяти и отправиться к побережью Кавна и Карии, чтобы следить за ними. Он оставался там около четырнадцати дней.
Финикийский флот [55] так и не появился, хотя Диодор утверждает, что он действительно был в пути. [стр. 28] Писифн, несомненно, давал обещания, и самосцы ожидали его прибытия, но я склонен полагать, что, хотя сатрап был готов вселять надежды и поощрять восстания среди союзников Афин, он всё же не решился открыто нарушить Каллиев мир, запрещавший персам отправлять флот западнее Хелидонского мыса.
Однако уход Перикла настолько ослабил афинский флот у Самоса, что самосцы, внезапно выйдя из гавани в удобный момент по наущению и под командованием одного из своих самых выдающихся граждан – философа Мелисса, – застали врасплох и разгромили блокирующую эскадру, одержав победу над оставшимся флотом, прежде чем корабли смогли выйти в открытое море. [56] В течение четырнадцати дней они оставались хозяевами моря, беспрепятственно ввозя и вывозя всё, что считали нужным. Лишь с возвращением Перикла блокада была восстановлена.
Тем временем к блокирующей эскадре прибыли подкрепления: из Афин – сорок кораблей под командованием Фукидида, [57] Агнона и Формиона, двадцать – под началом Тлеполема [стр. 29] и Антикла, а также тридцать с Хиоса и Лесбоса, что в сумме составило около двухсот кораблей. Против этой подавляющей силы Мелисс и самосцы предприняли тщетную попытку сопротивления, но вскоре были полностью блокированы и оставались в таком положении почти девять месяцев, пока не исчерпали все возможности обороны.
Тогда они капитулировали, будучи вынуждены срыть укрепления, сдать все военные корабли, дать заложников в обеспечение будущей лояльности и выплатить по частям всю стоимость операции, которая, как утверждается, достигла тысячи талантов. Одновременно сдались и византийцы. [58]
Два или три обстоятельства заслуживают внимания в связи с этим восстанием, поскольку они иллюстрируют тогдашнее состояние Афинской империи.
Во-первых, для подавления восстания потребовались все силы Афин вместе с контингентами с Хиоса и Лесбоса, так что даже Византий, присоединившийся к мятежу, остался, по-видимому, нетронутым. Примечательно, что ни один из зависимых союзников ни у Византия, ни в других местах не воспользовался столь благоприятным моментом, чтобы также восстать. Этот факт явно указывает на то, что среди них тогда почти не было активного недовольства. Если бы восстание распространилось на другие города, Писифн, вероятно, выполнил бы своё обещание привести финикийский флот, что стало бы серьёзной бедой для эгейских греков и было предотвращено лишь благодаря устойчивости Афинской империи.
Во-вторых, восставшие самосцы обратились за помощью не только к Писифну, но и к Спарте с её союзниками, среди которых на [стр. 30] специальном собрании формально обсуждался вопрос о согласии или отказе. Несмотря на действующее тридцатилетнее перемирие, из которого прошло лишь шесть лет и которое Афины никак не нарушали, многие союзники Спарты проголосовали за помощь Самосу. Какую позицию заняла сама Спарта, мы не знаем, но коринфяне были главными и решительными сторонниками отказа. Они не только утверждали, что перемирие прямо запрещает удовлетворять просьбу самосцев, но и признавали право каждого союза наказывать своих мятежных членов. В итоге было принято их решение, и впоследствии коринфяне получили признание со стороны Афин как его главные инициаторы. [59]
Бесспорно, если бы была принята противоположная политика, Афинская империя могла оказаться в большой опасности, финикийский флот, вероятно, был бы приведён, и дальнейший ход событий мог сильно измениться.
Снова, после повторного завоевания Самоса, мы можем почти с уверенностью предположить, что афиняне восстановили демократическое правление, которое они установили незадолго до восстания. Однако, если они так и поступили, оно должно было быть снова свергнуто без каких-либо попыток со стороны Афин его поддержать. Ведь мы почти не слышим о Самосе вновь вплоть до двадцати семи лет спустя, ближе к последнему этапу Пелопоннесской войны, в 412 г. до н.э., и тогда он предстает перед нами с устоявшимся олигархическим правлением геоморов, или землевладельцев, против которых в том же году народ успешно восстал. [60]
Поскольку Самос в период между 439 г. до н.э. и 412 г. до н.э. оставался неукрепленным, лишенным своего флота и включенным в число данников Афин, и тем не менее либо сохранил, либо приобрел олигархическое правление, мы можем заключить, что Афины вряд ли систематически насаждали демократию силой среди подчиненных союзников в тех случаях, где естественный ход событий склонялся к олигархии. Состояние Лесбоса на момент его восстания, о котором речь пойдет далее, подтвердит этот вывод. [61] [стр. 31]
По возвращении в Афины после повторного завоевания Самоса Перикл был избран для произнесения надгробной речи в честь граждан, павших в войне, которым, согласно обычаю, были устроены торжественные публичные похороны в предместье Керамик. Этот обычай, по-видимому, был введен вскоре после Персидской войны, [62] и, несомненно, способствовал подъему патриотизма среди граждан, особенно когда выбранный оратор обладал как личным достоинством, так и красноречием Перикла.
Дважды граждане избирали его для произнесения надгробной речи: первый раз – после самосской победы, а второй – в первый год Пелопоннесской войны. Его речь по первому случаю до нас не дошла, [63] но вторая, к счастью, сохранилась, по крайней мере в основных чертах, у Фукидида, который также кратко описывает погребальный обряд – несомненно, одинаковый во всех случаях.
Останки павших воинов выставлялись в шатрах за три дня до церемонии, чтобы родственники каждого могли принести дары. Затем их помещали в кипарисовые гробы и везли на повозках к общественному месту погребения в Керамике: один гроб на каждую из десяти фил и одно пустое ложе, торжественно приготовленное, чтобы символизировать тех воинов, чьи останки не были найдены или собраны. Женщины-родственницы следовали за повозками с громкими причитаниями, а за ними двигалась многочисленная процессия граждан и чужеземцев.
Как только останки были преданы земле, какой-нибудь выдающийся гражданин, [стр. 32] специально избранный для этой цели, поднимался на возвышение и обращался к собравшимся с соответствующей речью. Таково было впечатление от речи Перикла после Самосской экспедиции, что, когда он закончил, присутствующие выразили свои эмоции самым живым образом, а женщины особенно осыпали его венками, словно победившего атлета. [64]
Только Эльпиника, сестра покойного Кимона, напомнила ему, что победы ее брата были более счастливыми, так как одержаны над персами и финикийцами, а не над греками и сородичами. А современный поэт Ион, друг Кимона, передал то, что он счел непристойным хвастовством Перикла, – будто Агамемнон потратил десять лет на взятие чужого города, тогда как он за девять месяцев покорил первый и самый могущественный из всех ионийских городов. [65] Но если бы мы обладали подлинной произнесенной речью, то, вероятно, обнаружили бы, что он приписывал всю честь этого подвига Афинам и их гражданам в целом, сравнивая их достижение с достижением Агамемнона и его войска в выгодном свете, – а не себя с Агамемноном.
Каким бы ни казалось это хвастовство, нет сомнений, что исход Самосской войны не только спас Афинскую империю от великой опасности, [66] но и сделал её сильнее, чем когда-либо, а основание Амфиполя, осуществлённое двумя годами позже, укрепило её ещё больше. В последующие несколько лет мы не слышим о каких-либо дальнейших тенденциях к недовольству среди её членов вплоть до периода, непосредственно предшествовавшего Пелопоннесской войне. Общие чувства по отношению к Афинам, кажется, не были ни привязанностью, ни ненавистью, а лишь простым безразличием и принятием её верховенства. Та степень недовольства, которая действительно существовала среди союзников, проистекала не из реальных страданий, а из общего политического инстинкта греческого ума – желания отдельной авто [p. 33] номии для каждого города; это желание проявлялось в каждом городе через олигархическую партию, чья власть подавлялась Афинами и подпитывалась настроениями, исходившими от греческих общин за пределами Афинской империи. Согласно этим настроениям, положение подчинённого союзника Афин рассматривалось как унизительное и рабское. И по мере того, как страх и ненависть к Афинам становились всё более преобладающими среди союзников Спарты, они выражали эти настроения всё более резко, искусственно подогревая недовольство среди подвластных союзников Афинской империи.
Обладая полным господством на море и всеми видами превосходства, необходимыми для удержания власти над островами, Афины всё же не имели в своих подданных такого чувства, которое могло бы сделать их империю популярной, кроме идеи общей демократии, которая поначалу действовала без каких-либо усилий с их стороны, пока ход Пелопоннесской войны не превратил эту пропаганду в часть их политики. И даже если бы Афины искренне пытались поддерживать среди союзников чувство общих интересов и привязанности к постоянному союзу, инстинкт политического обособления, вероятно, сорвал бы все их усилия. Но они не прилагали таких усилий – с обычной моралью, присущей обладателям власти, они считали себя вправе требовать повиновения как должного. Некоторые афинские ораторы у Фукидида доходят до того, что отвергают все притязания на законную власть, даже те, что могли бы быть разумно обоснованы, опираясь на голый аргумент превосходящей силы. [67]
Поскольку союзные города в основном находились под демократиями – скорее благодаря косвенному влиянию, чем систематическому диктату Афин, – но в каждом из них существовала внутренняя аристократия, находившаяся в оппозиции, то движения за восстание против Афин исходили от аристократии или от отдельных граждан, тогда как народ, хотя и разделявший в той или иной степени стремление к автономии, либо боялся своей собственной аристократии, либо испытывал симпатию к [p. 34] Афинам, что делало его нерешительным в мятежах, а иногда и решительно против них.
Действительно, ни Перикл, ни Клеон не делали акцента на привязанности народа в отличие от немногих в этих зависимых городах, но этот аргумент сильно подчёркивается Диодором [68] в дискуссии относительно Митилены после её сдачи. И по мере развития войны вопрос союза с Афинами или Спартой всё больше отождествлялся с внутренним преобладанием демократии или олигархии в каждом городе. [69] Мы увидим, что в большинстве случаев реальных восстаний, где нам известны предшествующие обстоятельства, шаг предпринимался или организовывался небольшим числом олигархических недовольных без учёта общего мнения, тогда как в тех случаях, где общее собрание запрашивалось заранее, действительно проявлялось предпочтение автономии, но ничего похожего на ненависть к Афинам или решительное стремление порвать с ними.
В случае с Митиленой [70] на четвёртом году войны восстало именно аристократическое правительство, тогда как народ, как только получил оружие, открыто выступил за Афины. А отпадение Хиоса, величайшего из всех союзников, на двадцатом году Пелопоннесской войны, даже после всех тягот, которые союзники вынуждены были терпеть в этой войне, и после катастрофических поражений Афин под Сиракузами, – было подготовлено заранее и осуществлено тайными переговорами хиосской олигархии не только без согласия, но и против воли их собственного народа. [71] Подобным же образом восстание на Фасосе не произошло бы, если бы фасосская демократия не была предварительно уничтожена афинянином Писандром и его олигархическими сообщниками. Точно так же в Аканфе, Амфиполе, Менде и других афинских владениях, отнятых у Афин Брасидом, мы видим, что последний тайно проникал в город с помощью нескольких заговорщиков, в то время как большинство граждан не приветствовало его сразу как освободителя, словно устав от афинского господства: они соглашались, не без споров, лишь когда Брасид уже находился в городе, и его поведение, одновременно справедливое и умиротворяющее, быстро завоевывало их уважение; но ни в Аканфе, ни в Амфиполе он не был бы допущен по свободному решению граждан, если бы те не опасались за безопасность своих друзей, имущества и урожая, всё ещё находившихся за стенами. [72]
Эти конкретные примеры позволяют утверждать, что хотя олигархи в различных союзных городах страстно желали свергнуть афинское господство, народ обычно не спешил следовать за ними, иногда даже сопротивлялся и редко был готов жертвовать ради этой цели. Они разделяли общегреческое стремление к независимой автономии, [73] воспринимали Афинскую империю как внешнее давление, от которого были бы рады избавиться, если бы это можно было сделать безопасно. Однако их положение не было откровенно тяжёлым, и они осознавали риски подобной перемены – как из-за карающей руки Афин, так и из-за новых врагов, от которых Афины до сих пор их защищали, не говоря уже об угрозе со стороны собственной олигархии. Разумеется, разные союзные города испытывали неодинаковые чувства: некоторые были более враждебны Афинам, чем другие.
Основными причинами недовольства афинским господством со стороны союзников были, по-видимому, три фактора.
1. Ежегодная дань.
2. Притеснения, поборы и даже грабёж со стороны отдельных афинян, которые часто злоупотребляли своим привилегированным положением – будь то служба в военных флотах, должности инспекторов, гарнизонная служба или частные спекуляции.
3. Обязанность союзников передавать значительную часть своих судебных дел на рассмотрение дикастериев в Афинах. [стр. 36]
Что касается дани, я уже отмечал, что её размер с момента первоначального установления и до начала Пелопоннесской войны увеличился незначительно и составлял тогда шестьсот талантов в год. [74] Каждые пять лет проводился пересмотр и корректировка распределения суммы, и, вероятно, в это же время менялись сборщики; однако позже мы увидим, что дань стала больше и обременительнее. Такое же постепенное усиление можно предположить и в отношении второго источника недовольства – притеснений со стороны отдельных афинян, главным образом военных командиров или влиятельных граждан. [75] Безусловно, это всегда было в той или иной мере серьёзной проблемой с тех пор, как афиняне превратились из лидеров в деспотов, но, вероятно, масштабы этого явления стали по-настоящему значительными лишь после начала Пелопоннесской войны, когда угроза восстаний союзников возросла, а присутствие гарнизонов, инспекторов и кораблей для сбора дани стало важнейшим элементом функционирования Афинской империи.
Но третье из упомянутых обстоятельств – подчинение союзных городов афинским дикастериям – вызывало больше жалоб, чем второе, и, кажется, было чрезмерно преувеличено. Мы едва ли можем сомневаться, что начало этой юрисдикции, осуществляемой афинскими дикастериями, относится ко времени Делосского союза, в период первоначального формирования конфедерации. Неотъемлемым элементом этого союза было то, что его члены отказывались от права вести частные войны друг против друга и передавали свои разногласия на мирное арбитражное рассмотрение – условие, вводившееся даже в гораздо менее тесные союзы, чем этот, и абсолютно необходимое для эффективного поддержания любых совместных действий против [стр. 37] Персии. [76]