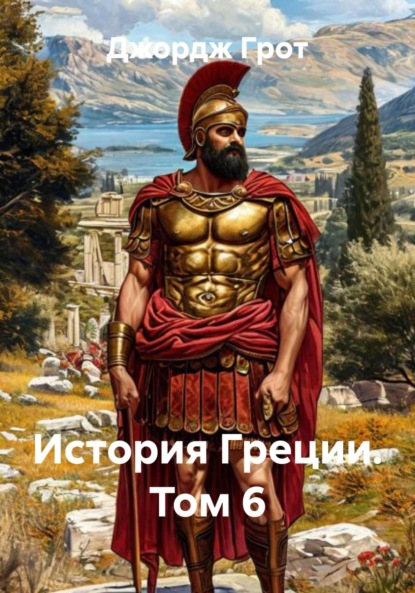- -
- 100%
- +
Разумеется, среди этих разбросанных островов и портов Эгейского моря, связанных между собой узами взаимной симпатии, торговли и общих опасений, должно было возникать множество поводов для споров, как публичных, так и частных. Делосский союз, состоявший из представителей всех городов, был естественным арбитражным органом для таких споров, и таким образом должна была сформироваться привычка признавать своего рода федеральный суд – чтобы мирно решать, насколько каждый союзник добросовестно выполнял свои обязанности как перед конфедерацией в целом, так и перед другими союзниками и их отдельными гражданами, – а также обеспечивать исполнение решений и наказывать строптивых членов, в соответствии с правом, которое Спарта и её союзники также заявляли и осуществляли. [77]
С самого начала афиняне были руководящими и обеспечивающими исполнение председателями этого союза, и когда он постепенно распался, они оказались на его месте, унаследовав и его функции. Именно таким образом их судебная власть над союзниками, по-видимому, впервые возникла, когда конфедерация превратилась в Афинскую империю – судебные функции союза были перенесены [стр. 38] вместе с общей казной в Афины и, несомненно, значительно расширены. В целом эти функции должны были приносить союзникам больше пользы, чем вреда, особенно самым слабым и беззащитным среди них.
Среди тысячи городов, плативших дань Афинам – принимая это численное указание Аристофана не в точном значении, а просто как обозначение большого количества, – если маленький город или один из его граждан имел повод для жалобы на более крупный, у него не было иного пути, кроме Делосского союза или афинского суда, чтобы получить хоть какую-то гарантию справедливого разбирательства. Не следует предполагать, что все частные жалобы и судебные тяжбы между гражданами в каждом подчинённом городе передавались на рассмотрение в Афины: однако мы не знаем точно, как проводилась граница между делами, направляемыми туда, и делами, разбиравшимися на месте. Подчинённые города, по-видимому, были лишены права выносить смертные приговоры, которые могли быть приведены в исполнение только после предварительного суда и осуждения в Афинах: [78] таким образом, последние оставляли за собой рассмотрение большинства тяжких преступлений – или, можно сказать, «высшего правосудия» в целом. А политические обвинения, выдвигаемые гражданином против гражданина в любом подчинённом городе по обвинению в измене, коррупции, невыполнении общественных обязанностей и т. д., несомненно, передавались на рассмотрение в Афины – возможно, это была самая важная часть их юрисдикции.
Но поддержание этого судебного верховенства не преследовало целью Афин существенное исправление отправления правосудия в каждом отдельном союзном городе: оно скорее было направлено на регулирование отношений между городами, – между гражданами разных городов, – между афинскими гражданами или должностными лицами и любым из этих союзных городов, с которыми они взаимодействовали, – между самим городом, как зависимым правительством с противоборствующими политическими партиями, и имперским центром, Афинами. Все это были проблемы, которые имперские Афины должны были решать, и лучшим способом их решения был бы какой-нибудь общий синод, представляющий всех союзников: отбросив этот вариант, мы увидим, что решение, предложенное Афинами, было [стр. 39], пожалуй, следующим по эффективности, и мы будем склонны так считать тем более, если сравним его с методами, которые позже приняла Спарта, когда уничтожила Афинскую империю.
При Спарте общим правилом было поставить каждый зависимый город под управление декадархии, или олигархического совета из десяти его главных граждан, вместе со спартанским гармостом, или наместником, имеющим при себе небольшой гарнизон. Когда мы перейдем к описанию Спартанской морской империи, обнаружится, что эти меры подвергали каждый зависимый город огромному насилию и вымогательству, а в итоге решали лишь часть проблемы: они лишь удерживали каждый отдельный город под властью Спарты, не способствуя регулированию отношений между гражданами разных городов или сплочению империи в целом.
Афиняне же, как правило, не назначали в зависимые города наместников, подобных гармостам, хотя иногда делали это в случае особой необходимости; но их флоты и должностные лица постоянно взаимодействовали с этими городами; и поскольку главные должностные лица отнюдь не были склонны воздерживаться от злоупотреблений, возможность подачи жалобы, всегда открытая перед афинским народным дикастерием, служила как средством правовой защиты, так и гарантией против подобного произвола. Это была гарантия, которую союзники явственно ощущали и ценили, как мы знаем от Фукидида: главным источником их бедствий были афинские чиновники и влиятельные граждане, которые могли использовать власть Афин в своих личных целях, – но они смотрели на «афинский демос как на карателя таких злодеев и как на свою гавань спасения» [79]. Если бы [стр. 40] народные дикастерии в Афинах не были так доступны, союзные города страдали бы гораздо сильнее от произвола капитанов и чиновников Афин в их личном качестве.
И поддержание политической гармонии между имперским городом и подчиненным союзником обеспечивалось Афинами через юрисдикцию их дикастерий с гораздо меньшими издержками в виде несправедливости и насилия, чем при Спарте; ибо если олигархические сторонники иногда могли быть несправедливо осуждены в Афинах, то эти случайные злоупотребления меркли перед жестокостями спартанских гармостов и декадархий, которые казнили множество людей без всякого суда.
Кроме того, следует помнить, что афинские частные лица, не занимавшие официальных должностей, расселялись по всей империи в качестве клерухов, землевладельцев или торговцев; естественно, поэтому возникали споры между ними и жителями подчиненных городов, а также между самими этими жителями, если они принадлежали к разным городам. В таких случаях спартанская имперская власть не предоставляла почти никаких средств правовой защиты, поскольку действия гармоста или декадархии ограничивались одним городом; тогда как афинские дикастерии, обладая универсальной компетенцией и публичным судопроизводством, предлагали единственно возможное решение. Если гражданин Фасоса считал себя обиженным историком Фукидидом – будь то как командующим афинским флотом на стоянке или как владельцем золотых приисков во Фракии, – он мог добиться справедливости, обвинив последнего [стр. 41] перед афинскими дикастериями, перед которыми самый могущественный афинянин был столь же ответственным, как и самый незначительный фасосец.
Для гражданина любого союзного города возможность быть привлеченным к суду в Афинах могла быть обременительной, но столь же ценным было для него право самому подать там иск против тех, до кого иначе он не смог бы добраться. Он получал как выгоду, так и неудобство. Афины, лишая своих союзников-подданных независимости, по крайней мере давали им взамен преимущество центральной и общей судебной власти; тем самым каждый из них получал возможность добиваться справедливости в отношении остальных – что, по крайней мере для слабейших, было бы невозможно даже в условиях всеобщей независимости.
Кажется, Спарта даже не пыталась сделать что-либо подобное в отношении своих подчиненных союзников, довольствуясь тем, что держала их под властью гармоста и олигархической партии. Мы встречаем рассказы, показывающие, что в Спарте невозможно было добиться справедливости даже в случае самых вопиющих злодеяний, совершенных гармостом или частными спартанцами за пределами Лаконии. Две дочери беотийца по имени Скедас из Левктр в Беотии были сначала изнасилованы, а затем убиты двумя спартанскими гражданами; сын жителя Орея на Эвбее также подвергся насилию и был убит гармостом Аристодемом: [80] в обоих случаях отцы отправились в Спарту, чтобы изложить эти ужасы эфорам и другим властям, но в обоих случаях их жалобы остались без внимания.
Однако если бы подобные преступления совершили афинские граждане или должностные лица, их можно было бы публично разоблачить на заседании дикастерия, и нет сомнений, что оба виновных понесли бы суровое наказание. В дальнейшем мы увидим, что подобное злодеяние, совершенное афинским стратегом Пахитом в Митилене, стоило ему жизни перед афинскими дикастами. [81]
Ксенофонт, в своем мрачном и тенденциозном описании афинской демократии, замечает, что если бы союзники не подчинялись суду в Афинах, они мало бы считались с афинским народом и угождали бы лишь отдельным афинянам – стратегам, триерархам или послам, – которые посещали острова по службе. Но при существующей системе подданные были вынуждены приезжать в Афины либо в качестве истцов, либо ответчиков, и потому им приходилось заискивать и перед основной массой народа – то есть перед теми простыми гражданами, из которых формировались дикастерии. В суде они умоляли дикастов о снисхождении. [82]
Как бы ни была верна эта картина, следует отметить, что предстать перед дикастерием было все же легче, чем быть осужденным без права на защиту по произволу командующего или вынужденным откупаться от его приговора взяткой. Более того, дикастерий был открыт не только для обвинений против граждан союзных городов, но и для рассмотрения их собственных жалоб на других.
Даже если признать афинские дикастерии крайне несовершенными судебными органами, нельзя забывать, что это были те же самые суды, перед которыми отвечал за свою судьбу и репутацию каждый афинский гражданин, и житель любого подчиненного города имел те же шансы на справедливость, что и уроженец Афин.
Соответственно, мы видим, как афинский посол в Спарте накануне Пелопоннесской войны особо подчеркивает это равенство как достоинство афинского владычества:
«Если бы наша власть перешла к другим, сравнение быстро показало бы, насколько умеренно мы ею пользуемся. Но в нашем случае сама эта умеренность обращается нам не в похвалу, а в укор. Даже когда мы ставим себя в невыгодное положение в судебных тяжбах с союзниками и назначаем разбирательство у себя, по законам, равным для обеих сторон, нас все равно обвиняют в сутяжничестве». [83]
«Наши союзники жаловались бы меньше, если бы мы открыто пользовались против них силой, но мы отвергаем такие методы и обращаемся с ними на равных. Они настолько к этому привыкли, что считают себя вправе возмущаться при малейшем несоответствии их ожиданиям. [84] Они терпели куда большие лишения под властью персов до возникновения нашего господства и терпели бы еще хуже под вами (спартанцами), если бы вам удалось победить нас и захватить нашу империю».
История подтверждает слова афинского оратора – как в отношении времени до афинского владычества, так и после него. [85]
Более того, афинский гражданин мог считать не обременительным, а почетным то, что союзникам разрешалось подавать на него в дикастерий и защищаться перед тем же судом – будь то в случае причиненного им ущерба или обвинения в измене афинской власти. Этим они ставились на один уровень с ним самим.
Еще больше оснований он находил для восхваления универсальной компетенции дикастериев, обеспечивавших общий правовой порядок для всех споров между многочисленными общинами империи, а также безопасное судоходство и торговлю в Эгейском море.
То, что подчиненные союзники роптали на эту систему, неудивительно: афинская империя вообще противоречила той автономии, на которую претендовал каждый город, – а дикастерии были одним из ее самых заметных и постоянно действующих институтов, а также явным знаком зависимости подвластных общин.
Тем не менее можно уверенно утверждать: если уж империя должна была существовать, то никакой иной способ управления ею не мог быть одновременно менее угнетающим и более полезным, чем надзорная роль дикастериев. Эта система возникла не из-за «любви к сутяжничеству» (если вообще считать это реальной чертой афинского характера, что я рассмотрю в другом месте), и уж тем не из-за тех мелких побочных выгод, на которые намекает Ксенофонт, [86] – таких как рост таможенных сборов, арендной платы за дома и доходов от сдачи рабов внаем в Пирее, а также увеличение прибылей глашатаев из-за наплыва тяжущихся.
Она была ничем иным, как властью, изначально присущей Делосскому союзу, – властью арбитража между членами и принуждения к исполнению обязанностей перед целым. Эту власть Афины унаследовали от этого союза и расширили в соответствии с политическими потребностями своей империи, что, по признанию самого Ксенофонта, [87] было необходимо.
Возможно, дикастерий не всегда был беспристрастен между афинскими гражданами (или афинским государством в целом) и подчиненными союзниками – и в этом последние имели основания для жалоб. Но с другой стороны, у нас нет оснований подозревать его в систематической несправедливости или в каких-либо иных недостатках, кроме тех, что были присущи его устройству и процедуре вне зависимости от сторон в процессе.
Мы рассматриваем теперь Афинскую империю в том виде, в каком она существовала до Пелопоннесской войны – до увеличения поборов и умножения восстаний, вызванных этой войной, до жестокостей, сопровождавших подавление этих восстаний и глубоко запятнавших характер Афин, до той усиленной свирепости, недоверия, пренебрежения к обязательствам и хищнического насилия, которые, как подчеркивает Фукидид, проникли в греческое сознание под влиянием лихорадки всеобщей борьбы. [88]
До этого времени было множество восстаний афинских подвластных государств – от самого раннего на Наксосе до последнего на Самосе. Все они были успешно подавлены, но ни в одном случае Афины не проявляли той неумолимой суровости, которую мы впоследствии увидим в их действиях против Митилены, Скионы и Мелоса. Политика Перикла, находившегося тогда в зените своего могущества в Афинах, была осторожной и консервативной: он избегал насильственного расширения империи, а также увеличения бремени для зависимых союзников, которое повлекли бы такие планы, и стремился поддерживать безопасную торговлю в Эгейском море, от которой все они выигрывали. При этом он осознавал, что рано или поздно конфликт между Афинами и Спартой неизбежен, и потому ресурсы, как и настроение союзников, следовало беречь для этого случая.
Если мы прочитаем у Фукидида речь посла из Митилены [89], произнесенную в Олимпии перед лакедемонянами и их союзниками на четвертый год Пелопоннесской войны по случаю восстания города против Афин – речь, в которой он умолял о помощи и излагал самые сильные обвинения против Афин, какие только можно было выдвинуть, – мы удивимся, насколько слабыми были эти обвинения и как сам оратор осознавал их слабость. У него не было никаких реальных жалоб или притеснений, которые можно было бы выставить против имперского города – он не упоминает о чрезмерности дани, безнаказанности афинских чиновников, трудностях судебных разбирательств в Афинах или других страданиях подданных. Единственное, что он мог сказать, – это что они были беззащитными и униженными подданными, и что Афины удерживали власть над ними без и против их согласия. В случае же Митилены и этого нельзя было сказать, поскольку она находилась в положении равного, вооруженного и автономного союзника.
Конечно, такое состояние вынужденной зависимости было тем, от чего союзники, или, по крайней мере, те из них, кто мог обойтись без поддержки, естественно и разумно стремились избавиться при первой возможности. [90] Однако косвенное доказательство, вытекающее из речи митиленского оратора, в значительной степени подтверждает точку зрения, высказанную афинским послом в Спарте незадолго до войны: за исключением самого факта такой вынужденной зависимости, союзникам практически не на что было жаловаться.
Более того, такой город, как Митилена, [стр. 48] был достаточно силен, чтобы защитить себя и свою торговлю без помощи Афин. Но для более слабых союзников распад Афинской империи значительно уменьшил бы безопасность как отдельных лиц, так и торговли в водах Эгейского моря, и их свобода была бы куплена ценой существенных практических неудобств. [91] [стр. 49]
Почти весь греческий мир, за исключением италийских, сицилийских и африканских греков, в это время входил либо в союз Лакедемона, либо в союз Афин, так что тридцатилетнее перемирие гарантировало повсеместное прекращение военных действий. Более того, лакедемонские союзники большинством голосов отказали Самосу в просьбе [стр. 50] о помощи в восстании против Афин, что, казалось, установило норму международного права: ни одно из этих двух великих объединений не должно вмешиваться в дела другого, и каждое должно сдерживать или наказывать своих непокорных членов. [92]
Главными советниками этого отказа, который существенно повлиял на ход событий, были коринфяне, несмотря на тот страх и неприязнь к Афинам, которые побуждали многих союзников голосовать за войну. [93] Положение Коринфа было особенным: в то время как Спарта и ее остальные союзники были в основном сухопутными державами, Коринф с древних времен был морским, торговым и колонизующим государством – некогда он действительно был первой морской державой Греции наряду с Эгиной. Но за последние сорок лет он либо не увеличил свой флот вовсе, либо, если и увеличил, его относительное морское значение было полностью затмено гигантским ростом Афин.
У коринфян были и торговля, и колонии – Левкада, Анакторий, Амбракия, Керкира и другие вдоль или близ побережья Эпира. У них была также колония Потидея, расположенная на перешейке Паллены во Фракии и тесно связанная с ними. Интересы их торговли заставляли их крайне неохотно идти на столкновение с превосходящим афинским флотом. Именно это соображение побудило их воспротивиться стремлению лакедемонских союзников начать войну в защиту Самоса: хотя их чувства ревности и ненависти к Афинам были даже тогда сильны, [94] особенно из-за борьбы несколькими годами ранее за присоединение Мегары к афинскому союзу, благоразумие подсказывало, что в войне против первой морской державы Греции они понесут наибольшие потери.
Пока политика Коринфа была направлена на сохранение мира, существовала большая вероятность, что войны удастся избежать или, по крайней мере, она будет принята только в случае крайней необходимости лакедемонским союзом. Но непредвиденное событие, произошедшее примерно через пять лет [стр. 51] после восстания Самоса, перевернуло все эти расчеты: оно не только уничтожило мирные настроения Коринфа, но и превратило его в активного подстрекателя войны.
Среди различных колоний, основанных Коринфом на побережье Эпира, большинство признавало за ним гегемонию или верховенство. [95] Какую степень реальной власти и вмешательства подразумевало это признание, помимо почетного статуса, мы не можем точно сказать; однако коринфяне пользовались популярностью и не выходили за рамки того уровня вмешательства, который сами колонисты считали приемлемым. Однако мощная Керкира представляла собой разительное исключение из этих дружественных отношений, находясь в постоянных разногласиях, а порой и в крайне враждебных отношениях со своей метрополией, отказывая ей даже в обычных знаках почетного и сыновнего уважения.
Именно на фоне этой привычной вражды между Коринфом и Керкирой разгорелся спор из-за города Эпидамна, известного в римские времена как Диррахий (близ современного Дурреса). Эпидамн был колонией, основанной керкирянами на побережье Иллирии в Ионическом заливе, значительно севернее их собственного острова. Настолько сильна была святость греческого обычая в отношении основания колоний, что керкиряне, несмотря на свою вражду с Коринфом, были вынуждены выбрать ойкиста (главного основателя) Эпидамна из числа граждан Коринфа – им стал Фалий, потомок Гераклидов. Вместе с ним прибыли и некоторые коринфские поселенцы. Таким образом, Эпидамн, хотя и был колонией Керкиры, считался, если можно так выразиться, «внучкой» Коринфа, и память об этом сохранялась благодаря периодическим торжествам в честь ойкиста. [96]
Расположенный на перешейке выступающего полуострова у побережья иллирийского племени таулантиев, Эпидамн поначалу процветал, приобретя значительную территорию и многочисленное население. Однако в годы, непосредственно предшествовавшие описываемому периоду, город пережил серьезные потрясения: внутренние раздоры между олигархией [стр. 52] и народом, усугубленные нападениями соседних иллирийцев, подорвали его мощь. Недавняя революция, в ходе которой народ сверг олигархию, еще больше ослабила город, поскольку изгнанные олигархи, собрав силы и заключив союз с иллирийцами, стали жестоко опустошать его с моря и суши.
Демократы Эпидамна оказались в таком отчаянном положении, что вынуждены были обратиться за помощью к Керкире. Их послы, сидя как молящие о защите в храме Геры, взывали к милосердию керкирян, умоляя их выступить как посредниками в переговорах с изгнанной олигархией, так и союзниками против иллирийцев. Хотя можно было ожидать, что сами керкиряне, управляемые демократически, проявят сочувствие к этим просителям, их реакция оказалась совершенно противоположной: дело в том, что именно эпидамнская олигархия имела тесные связи с Керкирой, откуда их предки некогда переселились и где до сих пор находились их родовые гробницы и родственники. [97] В то время как демос (мелкие землевладельцы и ремесленники Эпидамна), возможно, имел смешанное происхождение и, во всяком случае, не мог похвастаться видимыми свидетельствами древнего родства с материнским островом.
Получив отказ от Керкиры и оказавшись в невыносимо тяжелом положении, эпидамняне решили обратиться за помощью к Коринфу. Но поскольку этот шаг мог быть сочтен спорным, их послам было велено сначала испросить мнения дельфийского бога. Получив безоговорочное одобрение оракула, они отправились в Коринф с миссией, описывая свои бедствия и тщетные попытки получить помощь у керкирян, предлагая Эпидамн коринфянам как своим ойкистам и покровителям и умоляя о немедленной помощи для спасения города от гибели, не забыв упомянуть и о только что полученном божественном одобрении.
Убедить коринфян оказалось легко: они считали Эпидамн совместной колонией Коринфа и Керкиры и полагали себя не только вправе, но и обязанными защитить его. Это решение также подогревалось их давней враждой с Керкирой. Они быстро организовали экспедицию, состоявшую частично из новых поселенцев, частично [стр. 53] из военного контингента для защиты – коринфян, левкадцев и амбракиотов. Чтобы избежать противодействия мощного керкирского флота, этот отряд был переброшен по суше вплоть до Аполлонии, а оттуда морем доставлен в Эпидамн. [98]
Прибытие такого подкрепления на время спасло город, но навлекло на него грозное усиление опасности со стороны керкирян, которые рассматривали вмешательство Коринфа как посягательство на их права и возмущались этим самым решительным образом. Их чувства ещё больше разжигали эпидамнские олигархические изгнанники, прибывшие на остров с просьбами о помощи и ссылками на могилы своих керкирских предков, – они встретили горячее сочувствие. Их посадили на флот из двадцати пяти триер, впоследствии усиленный дополнительным подкреплением, и отправили к Эпидамну с оскорбительным требованием немедленно восстановить их в правах, а новоприбывших из Коринфа изгнать. Поскольку эти требования остались без внимания, керкиряне начали осаду города сорока кораблями и вспомогательным сухопутным войском иллирийцев, объявив, что любой человек внутри, будь то гражданин или нет, может беспрепятственно уйти, если пожелает, но в случае оставания будет считаться врагом. Сколько людей воспользовались этим разрешением, мы не знаем, но по крайней мере достаточно, чтобы донести до Коринфа весть о том, что их войска в Эпидамне находятся в плотной осаде.
Коринфяне немедленно ускорили подготовку второй экспедиции, достаточной не только для спасения города, но и для преодоления сопротивления, которое керкиряне наверняка окажут. Помимо тридцати триер и трёх тысяч гоплитов своих собственных, они запросили помощь кораблями и деньгами у многих союзников: восемь полностью укомплектованных кораблей предоставила Мегара, четыре – Палес с острова Кефалления, пять – Эпидавр, два – Трезен, один – Гермиона, десять – Левкада и восемь – Амбракия, а также денежные взносы от Фив, Флиунта и Элиды. Они также объявили публичный призыв к новым поселенцам в Эпидамн, обещая всем равные политические права; тем, кто желал стать поселенцем, но не был готов [стр. 54] отправиться немедленно, разрешалось гарантировать будущее принятие, внеся сумму в пятьдесят коринфских драхм. Хотя перспективы этих новых поселенцев казались полными сомнений и опасностей, доверие к защите метрополии Коринфа было столь велико, что многие согласились как присоединиться к флоту, так и внести залог для будущего переселения.
Все эти действия Коринфа, хотя и предпринятые с намеренной враждебностью к Керкире, не были предварены формальным предложением, как это было принято среди греческих государств, – суровость обращения проистекала не только из ненависти к Керкире, но и из-за особого политического положения этого острова, который стоял в одиночестве, не входя ни в Афинский, ни в Лакедемонский союз. Керкиряне, хорошо осведомлённые о серьёзных приготовлениях в Коринфе и объединении столь многих городов против них, понимали, что в одиночку им не справиться, несмотря на их богатство и внушительные военно-морские силы в сто двадцать триер, уступавшие лишь афинским. Они попытались отвести бурю мирными средствами, уговорив посредников из Спарты и Сикиона сопроводить их в Коринф, где, потребовав вывода войск и поселенцев, недавно отправленных в Эпидамн (отрицая право Коринфа вмешиваться в дела колонии), они одновременно предложили, если вопрос оспаривается, передать его на арбитраж либо какому-нибудь беспристрастному пелопоннесскому городу, либо Дельфийскому оракулу; арбитр должен был определить, какой из двух городов по праву является метрополией Эпидамна, и обе стороны обязались подчиниться решению. Они торжественно умоляли избежать военного конфликта, который, в случае его начала, вынудит их искать новых союзников, к которым они не хотели бы обращаться.