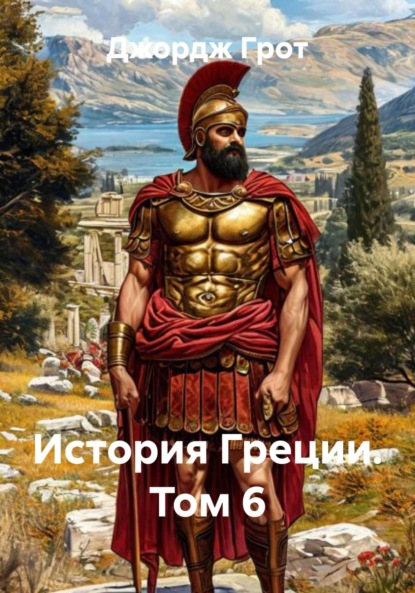- -
- 100%
- +
На это коринфяне ответили, что не могут рассматривать никаких предложений, пока керкирские осадные силы не будут отозваны из Эпидамна. Тогда керкиряне заявили, что готовы немедленно снять осаду, если одновременно будут выведены новые поселенцы и войска, присланные Коринфом. Либо должно быть это взаимное отступление, либо керкиряне соглашались сохранить [стр. 55] статус-кво с обеих сторон до вынесения решения арбитрами. [99]
Хотя керкиряне были неоправданно суровы, отвергнув первую просьбу Эпидамна, в их предложениях, сделанных в Коринфе, были на их стороне право и справедливость. Однако коринфяне зашли слишком далеко и заняли слишком явно агрессивную позицию, чтобы согласиться на арбитраж, и потому, как только их флот был снаряжён, они отплыли к Эпидамну, отправив глашатая объявить керкирянам формальную войну.
Как только флот, состоявший из 70 триер под командованием Аристея, Калликрата и Тиманора, с 2500 гоплитов под началом Архетима и Исархида, достиг мыса Актий у входа в Амбракийский залив, его встретил керкирский глашатай в маленькой лодке, запретивший любое дальнейшее продвижение. Это требование, разумеется, было проигнорировано, и вскоре появился керкирский флот. Из 120 триер, составлявших военно-морские силы острова, 40 были заняты осадой Эпидамна, но все остальные 80 теперь вступили в бой, причём старые корабли были специально отремонтированы для этого случая. В последовавшем сражении они одержали полную победу, уничтожив 15 коринфских кораблей и захватив значительное число пленных.
В тот же день победы Эпидамн сдался осаждавшему его флоту на условиях, что коринфяне внутри города будут считаться пленными, а остальные новоприбывшие будут проданы в рабство. Коринфяне и их союзники недолго оставались в море после поражения, а отступили домой, в то время как керкиряне остались бесспорными хозяевами прилегающих вод. Воздвигнув трофей на Левкимме, соседнем мысу их острова, они, согласно печальной практике греческих войн, перебили всех пленных – кроме коринфян, которых увезли домой и держали как ценные заложники для будущих переговоров.
Затем они начали мстить союзникам Коринфа, оказавшим помощь в недавней экспедиции: опустошили земли Левкады, сожгли Килену, порт Элиды [стр. 56], и нанесли столь значительный ущерб, что коринфяне были вынуждены к концу лета отправить второй флот к мысу Актий для защиты Левкады, Анактория и Амбракии. Керкирский флот снова собрался у мыса Левкимма, но дальнейших столкновений не произошло, и с приближением зимы оба флота были распущены. [100]
Коринфяне были глубоко унижены поражением на море, а также рассеянием колонистов, которых они собрали. И хотя их первоначальный план был сорван потерей Эпидамна, они лишь ещё сильнее возжелали полного отмщения своему старому врагу – Керкире. В течение двух полных лет после битвы они занимались постройкой новых кораблей и подготовкой флота, достаточного для их целей. В частности, они рассылали приглашения не только в порты Пелопоннеса, но и на острова, подвластные Афинам, чтобы нанять лучших моряков.
Благодаря этим долгим усилиям к третьему году после битвы 90 хорошо укомплектованных коринфских кораблей были готовы к отплытию. А весь флот, усиленный союзниками, насчитывал не менее 150 судов: 27 триер от Амбракии, 12 от Мегары, 10 от Элиды, столько же от Левкады и 1 от Анактория. Каждый из этих союзных отрядов имел своих командиров, в то время как коринфяне Ксеноклид и четверо других были главнокомандующими. [101]
Но тщательные приготовления, происходившие в Коринфе, не были тайной для керкирян, которые, кроме того, хорошо знали о многочисленных союзниках этого города и его обширном влиянии по всей Греции. Подобная грозная атака была слишком опасной, чтобы противостоять ей в одиночку и без поддержки. До сих пор они не вступали в союзы ни с Афинами, ни со Спартой: их гордостью и политикой всегда было сохранять независимую линию действий, что благодаря своему богатству, могуществу и исключительному положению им до сих пор удавалось делать безопасно. Однако то, что им удавалось действовать так без риска, и друзья, и враги считали особенностью, присущей их острову; из чего можно сделать вывод, насколько мало острова в [с. 57] Эгейском море, находившиеся под властью Афинской империи, смогли бы сохранить реальную независимость, если бы эта империя распалась. Но хотя Керкира до сих пор оставалась в безопасности благодаря политике изоляции, усиление и консолидация сил в остальной Греции достигли такого уровня, что даже она больше не могла продолжать эту линию. Поскольку вступление в Спартанскую лигу, где доминировал их непосредственный враг, было невозможно, у них не оставалось выбора, кроме как искать союза с Афинами. У этого города пока не было владений в Ионическом заливе; он не был родственным по происхождению и не имел прежних дружественных связей с дорийской Керкирой. Но если, таким образом, не было ни прежних фактов, ни чувств, которые могли бы стать основой союза, то и ничего не мешало его заключению: ведь в перемирии между Афинами и Спартой было прямо оговорено, что любой город, не входящий в союз ни с одной из сторон, может по своему желанию присоединиться к любой из них. [102] Хотя предложение о союзе формально оставалось открытым для принятия или отказа, время и обстоятельства, при которых оно было сделано, создавали серьезные риски для всех сторон; и керкирские послы, впервые прибывшие в Афины с этой целью, возлагали сомнительные надежды на успех, хотя для их острова этот вопрос был вопросом жизни и смерти.
Согласно современным теориям управления, объявление войны, заключение мира и создание союзов – это функции, которые надлежит доверять исполнительной власти, а не представительному собранию. По античным представлениям, эти вопросы как раз и были наиболее важными для решения народным собранием: и на практике они выносились на его рассмотрение даже в государствах с частично демократическим устройством, не говоря уже о полной демократии Афин. Керкирские послы, прибыв в город, сначала изложили бы свое дело стратегам, государственным военачальникам, которые назначили бы день для их выступления перед народным собранием, заранее уведомив граждан. Миссия не была секретной, ведь сами керкиряне заявили о своем намерении в Коринфе, когда предложили передать спор [с. 58] на арбитражное рассмотрение; но даже без такого уведомления политическая необходимость этого шага была настолько очевидна, что коринфяне его ожидали. Наконец, их проксены в Афинах – афинские граждане, следившие за коринфскими интересами, общественными и частными, и поддерживавшие доверительную переписку с этим правительством (которые иногда по назначению, а иногда добровольно выполняли часть функций современных послов), – сообщили бы им о прибытии керкирских послов. Таким образом, в день, назначенный для их выступления перед народным собранием, коринфские послы также присутствовали, чтобы возразить им и выступить против удовлетворения их просьбы.
Фукидид привел в своей истории речи обеих сторон; то есть речи собственного сочинения, но, по всей вероятности, передающие суть того, что было сказано на самом деле, и того, что он, возможно, сам слышал. Хотя эти речи пронизаны своеобразным стилем и жесткой структурой, характерной для историка, они тем не менее являются одними из самых ясных и деловых во всем его труде, полностью раскрывая перед нами сложившуюся ситуацию; ситуацию сомнения и затруднения, представляющую весомые доводы на каждой из противоположных сторон.
Керкиряне, сожалея о своей прежней беспечности, которая побудила их откладывать поиск союза до наступления часа нужды, представили себя претендентами на дружбу с Афинами, основываясь на самых веских аргументах общности интересов и взаимной пользы. Хотя их нынешняя опасность и отсутствие поддержки со стороны Афин были теперь неотложными, они не были вызваны несправедливым спором или позорным поведением: они предложили Коринфу честный арбитраж относительно Эпидамна, и их предложение было отвергнуто – что показывало, на чьей стороне правда; более того, теперь они оставались один на один не только с Коринфом, которого уже победили, но и с грозной коалицией, организованной под его эгидой, включая отборных моряков, нанятых даже из числа союзников Афин.
Исполнив их просьбу, Афины, во-первых, нейтрализовали бы это неправомерное использование своих собственных моряков и, в то же время, оказали бы неизгладимую услугу, защитили бы правое дело и обеспечили бы себе важнейшее подкрепление. Ведь после их собственного флота керкирский был самым мощным в [стр. 59] Греции, и теперь он был в их распоряжении: если бы, отказавшись от текущего предложения, они позволили Керкире потерпеть поражение, этот флот перешел бы на сторону их врагов. А таковыми были Коринф и Пелопоннесский союз – и вскоре они открыто объявят об этом.
В сложившейся ситуации в Греции столкновение между этим союзом и Афинами не могло долго откладываться: и именно с учетом этой возможности коринфяне теперь стремились захватить Керкиру вместе с ее флотом. [103] Поэтому политика Афин настоятельно требовала сорвать этот замысел, оказав сейчас помощь керкирянам. Они имели на это право по условиям тридцатилетнего перемирия: и хотя некоторые могли утверждать, что в нынешней критической ситуации принятие Керкиры равносильно объявлению войны Коринфу, действительность опровергла бы такие предсказания; ибо Афины укрепили бы себя настолько, что их враги стали бы еще менее склонны нападать на них.
Они не только сделали бы свой флот непреодолимо мощным, но и получили бы контроль над коммуникациями между Сицилией и Пелопоннесом, тем самым предотвратив отправку подкреплений сицилийскими дорийцами пелопоннесцам. [104]
На эти заявления керкирян коринфские ораторы ответили следующим образом. Они осудили эгоистичную и нечестивую политику, которую проводила Керкира, как в деле Эпидамна, так и во все прежние времена, [105] – что и было истинной причиной, по которой она всегда стыдилась честных союзников. Прежде всего, она всегда вела себя неблагодарно и преступно по отношению к Коринфу, своей метрополии, которому была обязана узами колониальной верности, признаваемыми греческой моралью, и [стр. 60] которым другие коринфские колонии охотно подчинялись. [106] Эпидамн был не керкирской, а коринфской колонией, и керкиряне, совершив несправедливость, осадив его, предложили арбитраж, не желая при этом выводить свои войска на время разбирательства. Теперь же они нагло просят Афины стать соучастниками в этой несправедливости. Положение тридцатилетнего перемирия, казалось бы, действительно позволяло Афинам принять их в союзники, но оно не предназначалось для разрешения принимать города, уже связанные колониальной зависимостью с другими, – тем более города, вовлечённые в активный и неразрешённый конфликт, где поддержка одной стороны неизбежно означала объявление войны другой. Если у кого и было право призывать афинян к помощи в данном случае, то у Коринфа оно было больше, чем у Керкиры: ведь последняя никогда не имела с афинянами никаких дел, тогда как Коринф не только оставался в дружественных отношениях с ними благодаря тридцатилетнему перемирию, но и оказал им существенную услугу, отговорив пелопоннесских союзников от помощи восставшему Самосу. Этим Коринфяне поддержали принцип греческого международного права, согласно которому каждый союз вправе наказывать своих мятежных членов. Теперь же они призывали Афины уважать этот принцип, не вмешиваясь в отношения между Коринфом и его колониальными союзниками, [107] тем более что нарушение его могло бы болезненно отразиться на самих Афинах с их многочисленными зависимыми городами. Что касается страха перед надвигающейся войной [стр. 61] между Пелопоннесским союзом и Афинами, то такая возможность пока оставалась неопределённой – и, возможно, никогда бы не реализовалась, если бы Афины поступили справедливо и согласились умиротворить Коринф в этот критический момент. Но она неизбежно реализовалась бы, если бы Афины отказались от такого примирения, и опасности, навлечённые этим на Афины, были бы куда серьёзнее, чем могла бы компенсировать обещанная военно-морская помощь Керкиры. [108]
Таково было содержание аргументов, приведённых противоборствующими послами перед афинским народным собранием в ходе этого судьбоносного обсуждения. Дебаты продолжались два дня, и собрание было перенесено на следующий день – столь многочисленными были ораторы и, вероятно, столь же разнообразными их мнения. К сожалению, Фукидид не приводит ни одной из этих афинских речей – даже речи Перикла, который определил окончательный исход. Эпидамн с его спорным вопросом о метрополии занимал афинское собрание мало, но керкирский флот действительно был огромным аргументом, поскольку вопрос стоял о том, окажется ли он на их стороне или против них – аргументом, который ничто не могло перевесить, кроме угрозы Пелопоннесской войны.
«Давайте избежим этой последней беды (таково было мнение многих), даже ценой того, что Керкира будет завоёвана, а все её корабли и моряки окажутся на службе у Пелопоннесского союза».
«Вы не избежите её даже такой высокой ценой (отвечали другие): причины войны уже действуют – и она неизбежно начнётся, что бы вы ни решили насчёт Керкиры. Воспользуйтесь же нынешней возможностью, чтобы потом не оказаться вынужденными вести войну в куда менее выгодных условиях».
Из этих двух точек зрения первая поначалу явно преобладала в собрании, [109] но постепенно афиняне склонились ко второй, которая соответствовала твёрдому убеждению Перикла. Тем не менее было решено избрать некий средний путь: спасти Керкиру и при этом, если возможно, избежать нарушения действующего перемирия и последующей Пелопоннесской войны.
Полностью принять керкирян в союзники, как они просили, означало бы для афинян необходимость присоединиться к ним в нападении на Коринф, если того потребуют, – что стало бы явным нарушением перемирия. Поэтому было заключено лишь оборонительное соглашение, обязывающее защищать Керкиру и её владения в случае нападения. Для поддержки этого решения был снаряжён лишь небольшой отряд из десяти триер под командованием Лакедемония, сына Кимона.
Незначительность этого отряда должна была убедить коринфян, что против их города не замышляется агрессии, но при этом спасти Керкиру от разгрома и, по сути, поддержать войну, ослабляя военно-морские силы обеих сторон, [110] – что было наилучшим исходом, на который могли надеяться Афины. Лакедемонию и его двум коллегам было строго приказано не вступать в бой с коринфянами, если те не направятся к Керкире или её владениям с целью нападения. Но в таком случае им надлежало действовать со всей решимостью в обороне.
Великий коринфский флот из ста пятидесяти кораблей вскоре отплыл из залива и достиг гавани на побережье Эпира у мыса Хеймерий, почти напротив южной оконечности Керкиры. Там они создали военно-морскую базу и лагерь, призвав на помощь значительные силы из дружественных эпирских племён, живших по соседству. Керкирский флот из ста десяти кораблей под командованием Мекиада и двух других стратегов, а также десять афинских кораблей заняли позицию у одного из близлежащих островов, называемого Сибота, в то время как сухопутные войска и тысяча закинфских гоплитов расположились на керкирском мысе Левкимма.
Обе стороны готовились к битве. Коринфяне, взяв на борт трёхдневный запас провизии, ночью отплыли от Хеймерия и на рассвете встретили керкирский флот, двигавшийся им навстречу. Керкиряне выстроились в три эскадры, по одной под командованием каждого из трёх стратегов, причём десять афинских кораблей находились на крайнем правом фланге. Против них выстроились лучшие коринфские корабли, занявшие левый фланг их общего флота. Рядом с ними разместились различные союзники, а мегарцы и амбракиоты – на крайнем правом фланге.
Никогда ещё два столь многочисленных греческих флота не сходились в битве, но тактика и манёвры не соответствовали их численности. Палубы были переполнены гоплитами и лучниками, в то время как гребцы (по крайней мере, на керкирской стороне) в основном состояли из рабов. Корабли с обеих сторон шли вперёд, чтобы столкнуться нос к носу, сцеплялись друг с другом, и тогда начиналась ожесточённая рукопашная схватка между воинами на борту, словно на суше – или, скорее, как при абордаже. Всё это соответствовало старой системе греческого морского боя, без тех усовершенствований, которые были внедрены в афинский флот за последнее поколение.
В афинской тактике морского боя корабль, гребцы и кормчий имели гораздо большее значение, чем воины на палубе. Благодаря силе и точности гребли, быстрой и внезапной смене направления, обманным манёврам афинский капитан стремился направить острый таран своего судна не в нос вражеского корабля, а в его более слабые и уязвимые части – борт, вёсла или корму. Таким образом, корабль в руках экипажа становился настоящим оружием атаки, сначала выводя противника из строя и лишая его управления, и лишь затем воины на палубе начинали свою работу. [111]
Лакедемоний с десятью вооружёнными кораблями, хотя ему и было запрещено инструкциями участвовать в битве, оказывал посильную помощь, заняв позицию на краю линии и делая вид, будто готов атаковать. [стр. 64] Тем временем его моряки могли спокойно наблюдать за тем, что они презирали как неумелое управление кораблями с обеих сторон.
После начала боя воцарился хаос: корабли смешались, вёсла были сломаны, управление потеряно, приказы не слышались и не выполнялись, и решающим фактором победы стала личная доблесть гоплитов и лучников на палубах.
На правом фланге коринфян левое крыло керкирян одержало победу: их двадцать кораблей отбросили амбракийских союзников Коринфа, не только преследуя их до берега, но и высадившись для разграбления лагеря. Однако их опрометчивость, из-за которой они надолго выбыли из битвы, обернулась огромным ущербом, тем более что их общая численность была меньше. Их правое крыло, противостоявшее лучшим коринфским кораблям, после ожесточённого боя было полностью разбито. Многие корабли были выведены из строя, остальные отступали как могли – отступление, которое мог бы прикрыть победоносный фланг, будь в флоте дисциплина, но теперь лишь частично поддерживалось десятью афинскими кораблями под командованием Лакедемония.
Хотя афиняне поначалу следовали инструкциям и воздерживались от прямого удара, но когда битва стала сомнительной, а затем коринфяне стали теснить победу, они уже не могли держаться в стороне и атаковали преследователей всерьёз, спасая разбитых керкирян.
Как только керкиряне были отброшены к своему острову, победившие коринфяне вернулись на место сражения, усеянное повреждёнными и тонущими кораблями – своими и вражескими, а также моряками, солдатами и ранеными, беспомощно державшимися за обломки или пытавшимися держаться на воде, среди них было много их собственных граждан и союзников, особенно с разбитого правого фланга. Они проплывали мимо этих кораблей, не пытаясь их буксировать, а лишь забирая экипажи: некоторых брали в плен, но большинство убивали. Даже некоторые из своих союзников были убиты по ошибке, так как их было трудно отличить.
Затем они собрали тела своих погибших и перевезли их в Сиботу, ближайшую точку эпирского побережья, после чего снова собрали флот и вернулись, чтобы возобновить атаку против керкирян у их берегов.
Керкиряне собрали все оставшиеся на плаву корабли, включая небольшой резерв, оставшийся в гавани, чтобы предотвратить высадку на побережье. Афинские корабли, теперь строго следуя инструкциям, готовились активно участвовать в обороне.
Уже наступил вечер, но коринфский флот, хотя и начал петь боевой пеан для атаки, внезапно стал давать задний ход вместо продвижения вперёд. Вскоре они развернулись и направились прямо к эпирскому берегу. Керкиряне не сразу поняли причину этого внезапного отступления, пока не объявили, что приближается неожиданное подкрепление – двадцать свежих афинских кораблей под командованием Главкона и Андокида, которых коринфяне заметили первыми и даже решили, что это авангард более крупного флота.
Уже стемнело, когда эти корабли достигли мыса Левкимма, пройдя через воды, усеянные обломками и телами. [112] Сначала керкиряне даже приняли их за врагов.
Это подкрепление было отправлено из Афин, вероятно, после получения более точных сведений о соотношении сил Коринфа и Керкиры, с пониманием, что первоначальных десяти кораблей окажется недостаточно для защиты – предположение, более чем подтвердившееся в реальности.
Хотя двадцать афинских кораблей и не были, как предполагали коринфяне, предвестниками более крупного флота, их оказалось достаточно, чтобы полностью изменить положение дел. В предыдущем сражении коркиряне потеряли семьдесят кораблей потопленными или поврежденными, тогда как коринфяне – лишь тридцать, так что численное превосходство оставалось на стороне последних. Однако они были обременены заботой о тысяче пленных, из которых восемьсот были рабами, захваченными в плен, – что было нелегко разместить или охранять в тесных помещениях античной триремы. Даже без этого затруднения коринфяне не были настроены рисковать вторым сражением против тридцати афинских кораблей в дополнение к оставшимся коркирским. И когда их враги [стр. 66] переплыли к эпирскому побережью, чтобы предложить им бой, они не только отказались, но думали лишь о немедленном отступлении – с серьезным опасением, что афиняне теперь перейдут в наступление, считая все дружественные отношения между Афинами и Коринфом практически разорванными после событий предыдущего дня.
Выстроив свой флот в линию недалеко от берега, они проверили намерения афинских командиров, отправив вперед небольшую лодку с несколькими людьми, чтобы обратиться к ним с таким упреком. Эти люди не несли жезла глашатая (можно сказать, у них не было флага перемирия) и потому оставались совершенно беззащитными перед врагом.
«Вы поступаете несправедливо, афиняне (воскликнули они), начиная войну и нарушая перемирие, ибо вы беретесь за оружие, чтобы помешать нам наказывать наших врагов. Если вы действительно намерены воспрепятствовать нам плыть против Коркиры или куда-либо еще по нашему выбору, нарушая перемирие, возьмите сначала нас, обращающихся к вам, и поступите с нами как с врагами».
Виной коркирян было то, что эта последняя идея не была немедленно реализована: те из них, кто находился достаточно близко, чтобы услышать, побуждали афинян яростными криками убить людей в лодке. Но афиняне, далекие от того, чтобы прислушаться к такому призыву, отпустили их с ответом:
«Мы не начинаем войну и не нарушаем перемирие, пелопоннесцы. Мы пришли лишь для того, чтобы помочь этим коркирянам, нашим союзникам. Если вы желаете плыть куда-либо еще, мы не препятствуем. Но если вы собираетесь плыть против Коркиры или любой из ее владений, мы приложим все усилия, чтобы помешать вам».
И ответ, и обращение с людьми в лодке убедили коринфян, что их отступление не встретит сопротивления, и они начали его, как только смогли подготовиться, однако задержались, чтобы воздвигнуть трофей в Сиботе на эпирском побережье в память о своей победе накануне.
На обратном пути они неожиданно захватили Анакторий у входа в Амбракийский залив, которым до сих пор совместно владели с коркирянами, и разместили там дополнительных коринфских поселенцев в качестве гарантии будущей верности. По возвращении в Коринф войско было распущено, а большинство пленных – восемьсот рабов – продано. Однако остальные, двести пятьдесят человек, были оставлены и пользовались особым милосердием. Многие из них принадлежали к первым и богатейшим семьям [стр. 67] острова, и коринфяне рассчитывали склонить их на свою сторону, чтобы сделать орудием для осуществления переворота на острове. Пагубные последствия их возвращения проявятся в одной из последующих глав.
Избавленные от всякой опасности, коркиряне собрали тела погибших и обломки кораблей, выброшенные за ночь на их остров, и даже нашли достаточно поводов, чтобы воздвигнуть трофей, главным образом благодаря частичному успеху на левом фланге. В действительности они были спасены от гибели лишь неожиданным прибытием последних афинских кораблей. Но конечный результат был для них триумфальным, тогда как для коринфян – катастрофическим и унизительным: понеся огромные затраты и задействовав всех своих добровольных союзников, они лишь оставили врага сильнее, чем он был прежде.
С этого времени они стали считать Тридцатилетнее перемирие нарушенным и питать к Афинам непримиримую и неприкрытую ненависть, так что афиняне ничего не выиграли от умеренности своих адмиралов, пощадивших коринфский флот у берегов Эпира. Вскоре коринфянам представился случай нанести удар своему врагу через одну из его обширных зависимых территорий.
На перешейке того меньшего полуострова, который называется Пелленой и образует самую западную из трех оконечностей большего полуострова, именуемого Халкидикой, между Термейским и Стримонским заливами, был расположен дорический город Потидея – один из союзников Афин, плативших им дань, но первоначально колонизированный Коринфом и сохранявший определенную метрополитанскую верность последнему: настолько, что ежегодно туда отправлялись некоторые коринфяне в качестве магистратов под названием эпедемиургов. На различных участках соседнего побережья также находилось несколько небольших городов, принадлежавших халкидянам и боттиеям, аналогично включенных в список афинских данников. Соседняя внутренняя территория, Мигдония и Халкидика [113], находилась под властью македонского царя Пердикки, сына того Александра, который [стр. 68] пятьдесят лет назад участвовал в походе Ксеркса. Эти два правителя, по-видимому, постепенно расширяли свои владения после крушения персидской власти во Фракии благодаря усилиям Афин, пока в конце концов не овладели всей территорией между реками Аксий и Стримон.