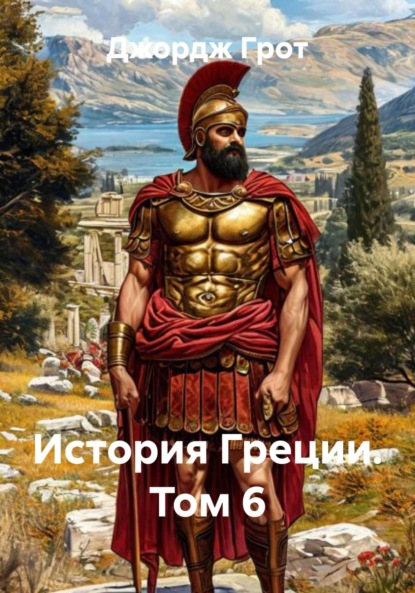- -
- 100%
- +
Благодаря неизбежному применению силы, связанному с их руководящей ролью, и [стр. 86] подавлению мятежей различных союзников, Афины постепенно стали непопулярны, а Спарта превратилась из друга во врага. Ослабить хватку над союзниками значило бы сделать их союзниками Спарты против себя; и потому к мотивам амбиций и доходов добавился страх, побуждавший Афины удерживать империю силой. На их месте ни одна греческая держава не поступила бы иначе – и уж точно ни одна, включая Спарту, не проявила бы столько справедливости и умеренности, оставив своим подданным так мало поводов для жалоб. Под властью Персии они страдали сильнее; под властью Спарты страдали бы ещё больше, ведь та держала своих союзников под гнётом олигархических клик в каждом городе; а если они ненавидели Афины, то лишь потому, что подчинённые всегда ненавидят текущую власть, какой бы она ни была. [141]
Оправдав как происхождение, так и функционирование Афинской империи, посол завершил речь предостережением Спарте – спокойно всё обдумать, не поддаваясь чужим страстям и нападкам, прежде чем сделать шаг, от которого не будет отступления и который отдаст будущее на волю непредсказуемых случайностей. Он призвал её не нарушать взаимно скреплённое перемирие, а урегулировать все разногласия, как готовы были Афины, путём дружественного арбитража, предусмотренного этим перемирием. Если же Спарта начнёт войну, афиняне последуют её примеру и дадут отпор, призывая в свидетели тех богов, под чьей сенью были даны клятвы. [142]
Факты, изложенные в предыдущих главах, показали, что рассказ афинского посла в Спарте о происхождении и характере империи, которой управлял его город, хотя, несомненно, являлся рассказом пристрастного сторонника, по сути был верным и справедливым; афинские послы еще не научились брать тот тон, который они взяли на шестнадцатом и семнадцатом году [p. 87] предстоящей войны – на Мелосе и в Камарине. В любое время до керкирских событий доводы, на которых настаивал афинянин, вероятно, были бы выслушаны в Спарте со вниманием. Но теперь спартанцы уже приняли решение. Очистив собрание от всех «чужестранцев» и даже союзников, они приступили к обсуждению и решению вопроса среди себя. Большинство ораторов придерживались одной позиции [143] – они расписывали уже причиненные Афинами обиды и настаивали на необходимости немедленной войны. Однако против такого исхода прозвучал один, и притом властный, голос: древний и уважаемый царь Архидам выступил против.
Речь Архидама – это речь рассудительного спартанца, который, отбросив как ненависть к Афинам, так и слепую приверженность союзникам, рассматривает вопрос исключительно с точки зрения интересов и чести Спарты – не забывая, впрочем, ни о ее имперской роли, ни о ее самобытности. Предыдущие местные ораторы, негодуя против Афин, вероятно, апеллировали к спартанской гордости, представляя дело как невыносимый позор, что почти все сухопутные силы дорийского Пелопоннеса позволили запугать себя одному-единственному ионийскому городу и медлят начать войну, которая, скорее всего, завершится одним вторжением в Аттику. Подобно тому как коринфяне пытались подстегнуть спартанцев своевременными насмешками и упреками, последующие ораторы преследовали те же цели, восхваляя известную доблесть и дисциплину города. Архидам взялся ответить на все эти доводы. Обращаясь к опыту старших современников, окружавших его, он внушал собранию мысль о серьезной ответственности, неопределенности, трудностях и опасностях войны, в которую они бросаются без подготовки [144]. Он напомнил им о богатстве, населении, превосходящем население любого другого греческого города, о морских силах, коннице, гоплитах, обширных заморских владениях Афин – а затем спросил, какими средствами они собираются их сокрушить? [145] Кораблей у них [p. 88] мало; обученных моряков – еще меньше; богатства – почти нет. Они, конечно, могут вторгнуться в Аттику и опустошить ее, пользуясь превосходством в численности и сухопутных силах; но у афинян есть заморские владения, которые позволят им обойтись без продукции Аттики, тогда как их мощный флот ответит такими же опустошениями Пелопоннесу. Предполагать, что одно-два разорительных вторжения в Аттику положат конец войне, было бы роковой ошибкой: такие действия лишь разозлят афинян, не ослабив их по-настоящему, и война может затянуться, быть может, на целое поколение [146]. Прежде чем решаться на войну, необходимо обеспечить более эффективные средства для ее ведения и умножить число союзников – не только среди греков, но и среди иностранцев; пока это будет происходить, следует отправить в Афины послов с требованием возмещения ущерба, понесенного союзниками. Если афиняне согласятся – а это весьма вероятно, когда они увидят идущие приготовления и угрозу опустошения тщательно возделанной земли Аттики, еще не реализованную, – тем лучше; если откажут, через два-три года войну можно будет начать с некоторыми надеждами на успех. Архидам напомнил своим согражданам, что союзники возложат на них ответственность за хороший или дурной исход нынешнего решения [147], и предостерег их в истинно консервативном спартанском духе держаться осторожной политики, всегда бывшей отличительной чертой государства, не обращая внимания ни на насмешки по поводу их медлительности, ни на похвалы их доблести.
«Мы, спартанцы, обязаны и своей храбростью, и благоразумием нашей прекрасной общественной дисциплине: она делает нас воинственными, потому что чувство стыда теснейшим образом связано с дисциплиной, как доблесть – с чувством стыда; она делает нас рассудительными, потому что наше воспитание удерживает нас от того, чтобы мнить себя выше собственных установлений, и держит [p. 89] нас в строгих рамках, чтобы мы не нарушали их [148]. И потому, не будучи слишком мудрыми в бесполезных искусствах, мы, спартанцы, не склонны принижать силу врага в красноречивых речах, а затем на деле проявлять несостоятельность; мы считаем, что возможности соседних государств примерно равны и что скрытые от нас шансы для обеих сторон слишком неопределенны, чтобы их можно было заранее разобрать в речах. Мы всегда готовимся к войне с врагом так, как если бы он действовал разумно; свою безопасность мы должны обеспечивать собственной предусмотрительностью, а не рассчитывать на его ошибки. В самом деле, нет большого превосходства одного человека над другим: сильнейший тот, кто закален в самых суровых испытаниях. Что до нас, давайте не откажемся от этой дисциплины, которую мы унаследовали от отцов и которую продолжаем соблюдать с великой пользой для себя; давайте не будем торопиться в один короткий час принять решение, от которого зависят столько жизней, столько имущества, столько городов и, кроме того, наша собственная репутация. Давайте возьмем время на размышление, поскольку наша [p. 90] сила вполне позволяет нам это. Пошлите послов в Афины по поводу Потидеи и других обид, в которых обвиняют наши союзники, – тем более что афиняне готовы дать нам удовлетворение; против того, кто предлагает удовлетворение, обычай запрещает действовать без предварительного обращения, как против объявленного обидчика. Но в то же время готовьтесь к войне; такой курс будет наилучшим и для вашей собственной мощи, и для устрашения ваших врагов» [149].
Речь Архидама не только сама по себе была полна здравого смысла и разумных доводов, но и произносилась с чисто спартанской точки зрения, сильно апеллируя к консервативным чувствам и даже предрассудкам спартанцев. Но, несмотря на всё это, а также на личное уважение к оратору, в тот момент волна противоположных настроений оказалась неодолимой. Сфенелаид – один из пяти эфоров, которому выпало поставить вопрос на голосование, – завершил дебаты. Его немногие слова сразу же раскрыли характер этого человека, настроение собрания и ту простоту речи (хотя и без мудрости суждений, на которую претендовал Архидам перед своими согражданами).
«Я не понимаю (сказал он) этих длинных речей афинян. Они много хвалили себя, но так и не опровергли обвинения в том, что они виновны в преступлениях против наших союзников и против Пелопоннеса. Если прежде они были доблестны в борьбе с персами, а теперь творят зло против нас, то заслуживают двойного наказания, ибо превратились из добрых в злодеев. [150] Но мы остались такими же, какими были тогда: мы не настолько глупы, чтобы сидеть сложа руки, пока наши союзники страдают, и не станем откладывать помощь, пока они не могут отложить свои страдания. [151] У других есть в изобилии богатства, корабли и кони, – но у нас есть верные союзники, которых мы не должны бросать на произвол афинян. И мы не станем доверять наше возмездие третейским судам и словам, когда обиды, нанесённые нам, не ограничиваются словами. Мы должны помочь им быстро и всей своей мощью. И пусть никто не говорит нам, что нам подобает совещаться, когда нам уже причиняют зло, – скорее тем, кто собирается его причинить, следует заранее хорошенько подумать. Итак, лакедемоняне, примите решение о войне, достойное Спарты: не позволяйте афинянам усилиться ещё больше, не предавайте союзников на гибель, но выступите с богами против обидчиков».
Этими немногими словами, так искусно направленными на опровержение благоразумных увещеваний Архидама, Сфенелаид поставил вопрос на голосование собрания. В Спарте решение обычно принималось не поднятием рук и не опусканием шаров в урну, а криками, подобными голосованию «за» или «против» в английской Палате общин, – председательствующий эфор объявлял, какая из сторон перекричала другую. На этот момент крики за войну явно преобладали, [152] но Сфенелаид сделал вид, что не может определить, какая сторона кричала громче, чтобы получить повод для более впечатляющего проявления настроений и создания видимости большего большинства – ведь часть меньшинства, вероятно, побоялась бы открыто высказать своё истинное мнение. Поэтому он приказал разделиться, подобно спикеру английской Палаты общин, когда его решение о перевесе «за» или «против» оспаривается:
– Те из вас, кто считает, что перемирие нарушено и афиняне поступают с нами несправедливо, пусть встанут с этой стороны; те, кто думает иначе, – с другой.
Собрание разделилось, и большинство, высказавшееся за войну, оказалось подавляющим.
Первым шагом лакедемонян после этого важного решения стало обращение к Дельфийскому оракулу с вопросом, будет ли война для них благоприятна. Ответ (Фукидид, кажется, не вполне уверен, что он был действительно дан [153]) гласил: если они приложат все усилия, то одержат победу, и бог поможет им, званые или незваные. Одновременно они созвали общий съезд своих союзников в Спарте, чтобы вынести своё решение на голосование всех.
Для коринфян, озабоченных спасением Потидеи, решение этого съезда было не менее важно, чем только что принятое спартанцами. Они разослали послов к каждому из союзников, умоляя их безоговорочно одобрить войну. Под влиянием этих увещеваний и общего настроения съезд собрался в явно воинственном духе. Большинство ораторов сыпали обвинениями против Афин и требовали немедленных действий, а коринфяне, как и прежде, выступили последними, завершив обсуждение речью, рассчитанной на единодушное голосование. Их предыдущая речь была направлена на то, чтобы пристыдить, разозлить и напугать лакедемонян – теперь эта цель была достигнута, и им предстояло убедить всех союзников в том, что отступление от готового к действиям лидера и бесчестно, и неразумно.
Это дело касалось всех – как приморских, так и континентальных государств, ведь все они в конце концов станут жертвами захватнической политики города-тирана. Все необходимые для войны усилия должны быть приложены охотно, ибо только война может привести к прочному и почётному миру. Были все основания надеяться, что победа будет достигнута быстро и война не затянется – настолько подавляющим было превосходство союза в численности, военном мастерстве и единодушии его членов. [154] Морское превосходство Афин держалось в основном на наёмных моряках, и союз, заняв средства из сокровищниц Дельф и Олимпии, скоро сможет переманить их лучших гребцов и сравняться с ними в оснащении флота. Они поднимут восстание среди афинских союзников и создадут укреплённый плацдарм для опустошения Аттики.
Для этого необходимо было создать общую казну, ведь Афины намного сильнее каждого из них по отдельности, и только сплочённость могла спасти их от порабощения – сама мысль об этом была невыносима для пелопоннесских свободных граждан, чьи отцы освободили Грецию от персов. Пусть же они не страшатся тягот и жертв в таком деле – их наследственная гордость заключалась в том, чтобы добиваться успеха упорным трудом. Дельфийский бог обещал им свою помощь, а вся Греция сочувствовала их делу – либо из страха перед афинским деспотизмом, либо в надежде на выгоду.
Они не первые нарушат перемирие, ведь афиняне уже сделали это, как явно подразумевало прорицание бога. Пусть же они немедля пошлют помощь потидейцам – дорийскому народу, осаждённому ионянами, – а также другим эллинам, порабощённым Афинами. С каждым днём необходимость действовать становилась всё острее, и чем дольше откладывать, тем болезненнее будет удар.
«Итак, убедитесь (заключил оратор), что этот город, провозгласивший себя тираном Эллады, угрожает всем нам – одним нынешним господством, другим будущим порабощением. Давайте нападём и сокрушим его, чтобы жить в безопасности самим и освободить тех эллинов, что ныне в рабстве». [155] Если на этом съезде и были произнесены речи против войны, они вряд ли могли увенчаться успехом в деле, в котором даже Архидам потерпел неудачу. После того как коринфянин [стр. 94] закончил, вопрос был поставлен перед депутатами каждого города, больших и малых, без разбора, и большинство высказалось за войну. [156] Это важное решение было принято около конца 432 г. до н. э. или в начале января 431 г. до н. э.: предварительное решение спартанцев, принятое отдельно, могло быть вынесено примерно двумя месяцами ранее, в октябре или ноябре 432 г. до н. э.
Рассматривая поведение двух великих греческих партий в этот судьбоносный момент с точки зрения существующих договоров и конкретных поводов для жалоб, становится ясно, что Афины были правы. Они не совершили ничего, что можно было бы справедливо назвать нарушением тридцатилетнего перемирия; а те их действия, которые объявлялись таковыми, они предлагали передать на дружественный арбитраж, как это и предусматривалось самим перемирием. Пелопоннесские союзники явно были зачинщиками конфликта; и если Спарта, обычно столь медлительная, теперь выступила в духе, столь решительно противоположном её обычному поведению, это следует отчасти объяснить её постоянным страхом и ревностью к Афинам, отчасти – давлением союзников, особенно коринфян. Фукидид, признавая эти два мотива главными определяющими факторами и указывая на предполагаемые нарушения перемирия лишь как на поводы или предлоги, по-видимому, считает, что страх и ненависть к Афинам сыграли в решении Спарты бо́льшую роль, чем настойчивость её союзников. [157]
Несомненно, необычайное усиление Афин в период, непосредственно последовавший за персидским вторжением, вполне могло вызвать тревогу и ревность на Пелопоннесе. Но если взять Афины в том состоянии, в котором они находились в 432 г. до н. э., стоит отметить, что они не сделали – и, насколько нам известно, даже не пытались сделать – ни одного нового приобретения за все четырнадцать лет, прошедших с момента заключения тридцатилетнего перемирия; [стр. 95] [158] более того, это перемирие ознаменовало собой период значительного унижения и ослабления их могущества. Триумф, который тогда одержали Спарта и пелопоннесцы, хотя и не был достаточно полным, чтобы устранить всякий страх перед Афинами, всё же был достаточно велик, чтобы вселить в них надежду, что второе объединённое усилие покорит Афины. Эта смесь страха и надежды как раз и была тем состоянием чувств, из которого с наибольшей вероятностью могла вырасти война, – и мы видим, что даже до конфликта между Коринфом и Керкирой проницательные греки повсюду ожидали войны как нечто неизбежного в ближайшем будущем: [159] она едва не вспыхнула даже во время восстания Самоса, [160] и мир тогда сохранился отчасти благодаря торговым и морским интересам Коринфа, отчасти – из-за бездействия Афин.
Но ссора Коринфа с Керкирой, которую Спарта могла бы уладить заранее, если бы сочла это в своих интересах, – и союз Керкиры с Афинами – показали последние вновь на пути к усилению, что снова пробудило воинственные настроения в Спарте, превратив при этом Коринф из сторонника мира в шумного глашатая войны. Восстание Потидеи – подстрекаемое Коринфом и поощряемое Спартой в виде прямого обещания вторгнуться [стр. 96] в Аттику – стало, по сути, первым явным нарушением перемирия и начальным шагом к Пелопоннесской войне. Ни собрание в Спарте, ни последующий съезд союзников не имели иной цели, кроме как соблюсти формальности, необходимые для обеспечения единодушных и решительных действий множества сторон, и придать видимость законности состоянию войны, уже существовавшему де-факто, хотя ещё и не объявленному.
Чувства, царившие на Пелопоннесе в этот момент, – это не страх перед Афинами, а ненависть к Афинам и уверенная надежда их сокрушить. И такая уверенность имела под собой веские основания: можно было вполне ожидать, что афиняне не вынесут полного опустошения своих тщательно возделанных земель – или, по крайней мере, что они непременно выйдут сражаться за них в открытом поле, чего пелопоннесцы только и желали. Лишь беспрецедентное влияние и непоколебимая решимость Перикла заставили афинян упорствовать в стратегии терпеливой обороны и полагаться на своё морское превосходство, которое враги Афин – за исключением разве что рассудительного Архидама – ещё не научились в полной мере оценивать. Более того, уверенность пелопоннесцев значительно подкреплялась широкой симпатией к их делу, провозглашавшему освобождение Греции от власти города-тирана. [161]
Для Афин, с другой стороны, надвигавшаяся война представлялась в совершенно ином свете: она сулила почти никаких надежд на возможную выгоду, зато гарантировала огромные потери и лишения – даже если бы, ценой этих тяжёлых жертв, удалось сохранить независимость и единство на родине, а также империю за её пределами. Перикл и наиболее дальновидные афиняне предвидели неизбежность войны ещё до керкирского конфликта. [162] Но Перикл был лишь первым гражданином в демократии: его уважали, доверяли ему и прислушивались к нему больше, чем к кому-либо другому, однако большинство его мер встречали горячее сопротивление в условиях свободы слова и широких возможностей для индивидуальных действий, царивших в Афинах, – а многие активные политические противники откровенно ненавидели его.
Официальное решение лакедемонян объявить войну, разумеется, должно было стать известно в Афинах [стр. 97] через тех афинских послов, которые тщетно протестовали против него на спартанском собрании. Спарта не предпринимала никаких шагов для реализации этого решения до съезда союзников и их подтверждающего голосования. Но даже после этого спартанцы не отправили глашатая и не сделали формального объявления. Они передали Афинам ряд требований – вовсе не с целью добиться удовлетворения или найти выход из вероятной войны, а, напротив, чтобы умножить поводы для конфликта. [163] Тем временем депутаты, разъезжаясь по своим городам после съезда, везли с собой общее решение о немедленных военных приготовлениях, которые следовало начать как можно скорее. [164] Первый ультиматум, предъявленный лакедемонянами Афинам, был политическим маневром, направленным против Перикла – их главного противника в этом городе. Его мать, Агариста, принадлежала к знатному роду Алкмеонидов, которые считались запятнанными неискупимой наследственной скверной из-за святотатства, совершенного их предком Мегаклом почти двумя веками ранее, во время убийства килоновых молящих у алтаря Достойных Богинь. [165] Хотя это событие было давним, оно всё ещё сохраняло силу в сознании афинян и могло служить основанием для политической интриги: около семидесяти семи лет назад, вскоре после изгнания Гиппия из Афин, спартанский царь Клеомен использовал его, потребовав от афинян очиститься от древней скверны путем изгнания Клисфена, основателя демократии, и его главных сторонников. Это требование, предъявленное Клеоменом афинянам по наущению Исагора, соперника Клисфена, [166] было тогда исполнено и послужило целям тех, кто его выдвинул. Теперь лакедемоняне нацелили аналогичный удар [стр. 98] на Перикла, внучатого племянника Клисфена, несомненно, по наущению его политических врагов: под предлогом религии требовали «изгнать скверну богини». [167] Если бы афиняне подчинились, они лишились бы в критический момент своего способнейшего вождя; но лакедемоняне, не ожидая согласия, рассчитывали хотя бы дискредитировать Перикла в глазах народа, представив его отчасти виновником войны из-за родовой скверны нечестия, [168] – и это впечатление, несомненно, усиленно распространялось бы его политическими противниками в народном собрании.
Влияние Перикла на афинскую публику всё более усиливалось по мере того, как рос их политический опыт общения с ним. Но и враждебность его врагов, похоже, возрастала вместе с этим; незадолго до описываемых событий на него косвенно нападали, выдвигая обвинения против трёх разных лиц, так или иначе близких ему – его возлюбленной Аспасии, философа Анаксагора и скульптора Фидия. Точные даты и обстоятельства этих обвинений установить трудно. Аспасия, дочь Аксиоха, была уроженкой Милета, красивой, образованной и честолюбивой. Она жила в Афинах, и, хотя свидетельства ненадёжны, утверждается, что держала рабынь, сдававшихся внаём как гетеры. [169] Как бы то ни было, и независимо от этого слуха, который, скорее всего, был порождён политической клеветой против Перикла, [169] несомненно, что её собственные [стр. 99] чары, образованность и способности – не только к беседе, но даже к ораторскому искусству и [стр. 100] критике – были столь исключительны, что самые выдающиеся афиняне всех возрастов и характеров, включая Сократа, посещали её, а некоторые приводили с собой жён, чтобы и те её послушали. Свободные гражданки Афин жили в строгом, почти восточном затворничестве, как замужние, так и незамужние: всё, что касалось их жизни, счастья или прав, решалось и управлялось мужчинами-родственниками; они, по-видимому, были лишены какого-либо умственного развития и образования. Их общество не представляло ни прелести, ни интереса, потому мужчины искали общения в кругу женщин, называемых гетерами, буквально – «подругами», которые вели свободный образ жизни, сами управляли своими делами и жили за счёт умения нравиться. Таких женщин было много, и, конечно, среди них встречались самые разные характеры, но наиболее выдающиеся и незаурядные, такие как Аспасия и Феодота, [170] по-видимому, были единственными женщинами в Греции (кроме спартанок), способными внушать сильную страсть или оказывать умственное влияние.
Перикл при выборе жены руководствовался семейными соображениями, которые в Афинах считались почти обязательными, и женился на близкой родственнице, от которой имел двух сыновей – Ксантиппа и Парала. Однако этот брак, никогда не бывший счастливым, впоследствии был расторгнут по взаимному согласию, согласно полной свободе развода, разрешённой афинскими законами; причём Перикл согласился с родственниками жены, являвшимися её законными опекунами, чтобы она вышла замуж за другого. [171] Затем он взял Аспазию к себе, [стр. 101] имел от неё сына, названного в его честь, и до конца жизни сохранял с ней самые близкие и нежные отношения.
Не принимая преувеличений, согласно которым Аспазия якобы научила Перикла красноречию или даже сама писала для него публичные речи, можно поверить, что она была достаточно образованна, чтобы интересоваться и участвовать в литературных и философских беседах, которые велись в доме Перикла. Однако его беспринципный сын Ксантипп, раздражённый размеренностью отцовских расходов, лишавшей его средств для роскошной жизни, распускал о том преувеличенные слухи и насмехался. Именно от этого недостойного юноши, умершего от афинской чумы при жизни Перикла, политические противники последнего и комедиографы того времени черпали скандальные истории для нападок на частную жизнь великого мужа. [172]
Комедиографы обвиняли его в мнимых связях с разными женщинами, но Аспазию они изображали без всякого стеснения, словно она была общественным достоянием: она представала то Омфалой, то Деянирой, то Герой в отношениях с этим великим Гераклом или Зевсом Афин. В конце концов один из этих комедиографов, Гермипп, не ограничившись сценическими нападками, привлёк её к суду по обвинению в нечестии – за участие в философских дискуссиях и распространение учений Анаксагора и других в кругу Перикла. Против самого Анаксагора также был выдвинут аналогичный иск, якобы поданный Клеоном или Фукидидом, сыном Мелесия, на основании недавнего постановления народного собрания, принятого по инициативе Диопифа.
Афинская публика, как позже роковым образом проявилось в случае с Сократом, была крайне нетерпима к философам, чьи взгляды противоречили традиционным религиозным догмам, и эта нетерпимость, подогреваемая политическими распрями, заставила Перикла не рисковать с открытым судом над Анаксагором: тот покинул Афины, и приговор об изгнании был вынесен заочно. [173]