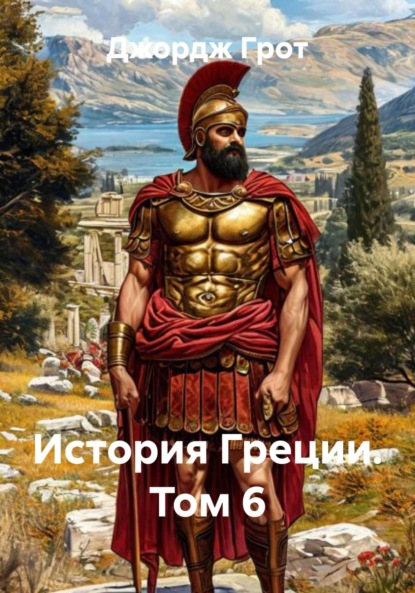- -
- 100%
- +
Однако самого́ Перикла это не остановило: он лично защищал Аспазию перед судом. [стр. 102] Фактически обвинение было направлено не столько против неё, сколько против него: одной из выдвинутых против неё (а также против Фидия) претензий было то, что они сводили Перикла со свободными женщинами. Защита оказалась успешной, и оправдательный приговор был вынесен, но, по свидетельствам, речь Перикла сопровождалась сильнейшими эмоциями и даже слезами. [174] Судьи привыкли к подобным апелляциям к их чувствам, порой даже чрезмерным, со стороны обычных подсудимых, но для Перикла, известного железным самообладанием, [175] такая вспышка стала исключением.
И позже, в конце своей политической карьеры, когда он временно потерял расположение афинян, отчаявшихся из-за ужасов чумы, он стойко переносил их несправедливый гнев – не только с достоинством, но и с гордостью сознания своей правоты, граничившей с вызовом. Ритор Дионисий, критикуя речь Перикла так, будто она была сочинена Фукидидом, даже упрекал историка в нарушении драматического правдоподобия: вместо смирения он якобы вложил в уста Перикла высокомерие. [176] Кажется также, насколько мы можем судить по весьма несовершенным данным, что суд над великим скульптором Фидием по обвинению в присвоении средств при заключении контракта на его знаменитую золотую и слоновую статую Афины [177], состоялся примерно в этот период. Эта статуя была завершена и установлена в Парфеноне в 437 г. до н. э., после чего Фидий работал в Олимпии над своим последним и величайшим шедевром – колоссальной статуей Олимпийского Зевса. [стр. 103] По возвращении в Афины после завершения этой работы, около 433 или 432 г. до н. э., против него было выдвинуто обвинение в растрате политическими врагами Перикла. [178] Раб Фидия по имени Менон, объявив себя осведомленным о фактах, доказывающих, что его господин совершил хищение, укрылся у алтаря как проситель защиты. Было внесено предложение принять его показания и обеспечить ему покровительство народа; после этого он раскрыл различные сведения, порочащие финансовую честность Фидия, и последний был заключен в тюрьму в ожидании суда перед дикастерием. Однако золото, использованное в статуе и за которое было уплачено, можно было снять и взвесить, чтобы проверить его количество, – и Перикл открыто бросил вызов обвинителям сделать это.
Помимо обвинения в растрате, были и другие обстоятельства, сделавшие Фидия непопулярным: обнаружилось, что на рельефах фриза Парфенона он поместил как свой собственный портрет, так и портрет Перикла на видных местах. Похоже, Фидий умер в тюрьме до дня суда; некоторые даже утверждали, что он был отравлен врагами Перикла, чтобы усугубить подозрения против последнего, который и был настоящей целью атаки. Говорили также, что Драконтид предложил и провел в народном собрании постановление, обязывающее Перикла отчитаться о потраченных деньгах, а дикасты, перед которыми должен был быть представлен отчет, должны были вынести свой вердикт самым торжественным образом – у алтаря. Однако это последнее положение было изменено Агноном, который, предложив увеличить число дикастов до полутора тысяч, сохранил обычную процедуру голосования камешками в урне. [179]
Если Перикл когда-либо представал перед судом по такому обвинению, нет сомнений, что он был оправдан с честью: ведь слова Фукидида о его финансовой честности таковы, что их нельзя было бы употребить, если бы обвинительный приговор за растрату когда-либо был публично вынесен. Однако мы не можем быть уверены, что суд вообще состоялся: более того, другое обвинение, [стр. 104] выдвинутое его врагами и даже Аристофаном на шестом году Пелопоннесской войны, подразумевает, что суда не было. Утверждалось, будто Перикл, чтобы избежать этой опасности, «раздул Пелопоннесскую войну» и вверг свою страну в такой хаос и опасность, что его собственное руководство стало для нее абсолютно необходимым: в частности, он провел декрет против мегарцев, который и стал непосредственной причиной войны. [180] Однако мы знаем достаточно, чтобы быть уверенными: подобное предположение совершенно несостоятельно. Враги Перикла были слишком жаждущи и слишком искушены в афинской политической борьбе, чтобы позволить ему избежать ответственности такой уловкой; более того, как уверяет нас Фукидид, война зависела от гораздо более глубоких причин – что Мегарский декрет вовсе не был ее настоящей причиной, что это не Перикл, а пелопоннесцы развязали ее ударом по Потидее. [стр. 105]
Из всех этих неподтверждённых обвинений мы можем с уверенностью заключить лишь то, что за год или два до начала Пелопоннесской войны Перикл подвергался жёстким нападкам со стороны политических противников – возможно, даже лично, но уж точно в лице тех, кто пользовался его наибольшим доверием и расположением. [181] Именно в этот период ухудшения его политического положения лакедемоняне направили в Афины упомянутое выше требование о том, чтобы древнее килоновское святотатство было наконец искуплено – иными словами, чтобы Перикл и его род были изгнаны. Безусловно, его враги, а также сторонники Спарты в Афинах, активно поддержали это предложение: при этом спартанская партия в Афинах всегда оставалась влиятельной, даже в разгар войны – считалось честью быть проксеном лакедемонян даже для знатнейших афинских семей. [182]
Однако на этот раз манёвр не удался, и афиняне не вняли требованию об изгнании «святотатственного» рода Алкмеонидов. Напротив, они ответили, что и у спартанцев есть неискуплённое святотатство: они нарушили святилище Посейдона на мысе Тенар, вытащив оттуда и казнив нескольких илотов-молящих, а также святилище Афины Халкиойкос в Спарте, заперев там и уморив голодом виновного регента Павсания. Требование «очистить» Лаконию от этих двух святотатств стало единственным ответом Афин на притязания об изгнании Перикла. [183] Вероятно, реальным последствием этого требования стало лишь укрепление его общественного авторитета, [184] что разительно отличалось от эффекта аналогичного манёвра, применённого ранее Клеоменом против Клисфена. [стр. 106]
Вскоре прибыли новые спартанские послы с дополнительными требованиями. Теперь афинянам предписывалось:
1. Вывести войска из Потидеи.
2. Восстановить автономию Эгины.
3. Отменить декрет о мегарской изоляции.
Наибольший упор делался на последнее требование, причём намекалось, что войны можно избежать, если оно будет выполнено. Из этого шага явно видно, что лакедемоняне действовали в согласии с антиперикловыми лидерами в Афинах. Для Спарты и её союзников мегарский декрет был менее важен, чем спасение блокированных в Потидее коринфских войск, но, с другой стороны, противники Перикла имели гораздо больше шансов добиться от народного собрания его отмены – а эта победа могла ослабить его влияние в целом.
Однако ни по одному из трёх пунктов уступок добиться не удалось: даже в отношении Мегары декрет был подтверждён, несмотря на всё давление оппозиции. В конце концов лакедемоняне – уже принявшие решение о войне и отправившие послов лишь для соблюдения формальностей, а не в надежде на компромисс – направили третье посольство с предложением, которое, по крайней мере, имело то достоинство, что открыто раскрывало их истинные намерения. Рамфий и двое других спартанцев передали афинянам краткое повеление:
«Лакедемоняне желают сохранить мир – и он сохранится, если вы предоставите эллинам автономию».
После этого требования, столь отличного от предыдущих, афиняне решили созвать новое собрание для обсуждения вопроса о войне и мире, чтобы рассмотреть его заново и дать окончательный ответ. [185]
Последние требования, выдвинутые Спартой, которые сводились ни более ни менее как к полному уничтожению Афинской империи, – в сочетании с характером ранее предъявленных требований, одновременно нерешительным и неискренним [p. 107], а также с осознанием того, что Пелопоннесский союз уже окончательно высказался за войну, – казалось, должны были привести к единодушию в Афинах и собрать это важное народное собрание в твёрдой уверенности, что война неизбежна. Однако этого не произошло. Большинство собрания искренне не желало войны, а для значительной его части это нежелание было настолько сильным, что они даже теперь вернулись к возможности, на которую ранее намекали лакедемоняне, – отмене антимегарского декрета, будто бы он и был главной причиной войны. Среди ораторов возникли серьёзные разногласия: некоторые настаивали на отмене этого декрета, считая его слишком незначительным поводом для войны и осуждая упрямство Перикла, отказавшегося уступить в таком пустяке [186]. Против этого мнения Перикл выступил с решительной и воодушевляющей речью, которую Дионисий Галикарнасский ставит в число лучших речей Фукидида; возможно, сам историк слышал её в оригинале.
«Я остаюсь, афиняне, при том же убеждении, что уступать пелопоннесцам не следует, – хотя и знаю, что люди в одном настроении, когда принимают решение о войне, и в другом, когда война уже началась, ибо их суждения тогда зависят от хода событий. Мне остаётся лишь повторить то, что я говорил прежде, и заклинаю тех, кто разделяет мои взгляды, держаться совместно принятых решений, даже если результат окажется частично неблагоприятным; в противном случае – не претендовать на мудрость в случае успеха [187]. Ибо вполне [p. 108] возможно, что события могут отклониться от разумного пути ещё сильнее, чем человеческие расчёты: таковы неожиданные повороты, которые мы привыкли приписывать судьбе. Лакедемоняне и прежде выказывали свои враждебные замыслы против нас, но на этот раз – более чем когда-либо. В то время как перемирие предписывает нам разрешать разногласия путём дружеского удовлетворения претензий, сохраняя при этом свои владения, – они не только не требуют такого удовлетворения, но и отказываются принять его, когда мы его предлагаем. Они хотят решать жалобы войной, а не переговорами: они уже вышли за рамки жалоб и теперь говорят с нами языком приказов. Они требуют, чтобы мы вывели войска из Потидеи, предоставили Эгину независимость и отменили декрет против мегарцев; мало того, эти последние послы даже заявляют, что мы должны освободить всех греков. Пусть никто из вас не думает, будто мы будем воевать из-за пустяка, если откажемся отменить мегарский декрет, – который они выдвигают на первый план, словно его отмена предотвратит войну, – и пусть никто не винит себя, будто мы начали войну из-за малозначительного дела. Ибо в этом „малозначительном деле“ заключена вся проверка вашей твёрдости: если вы уступите, вам тут же предъявят новое, большее требование, как людям, уже дрогнувшим от страха; если же вы стойко выдержите, то ясно дадите им понять, что с вами придётся иметь дело на равных» [188].
Затем Перикл проанализировал соотношение сил и перспективы войны. Пелопоннесцы были народом, живущим собственным трудом, с малым числом рабов и без богатства – ни частного, ни общественного; у них не было средств для ведения продолжительной или дальней войны. Они готовы были жертвовать собой, но совершенно не готовы жертвовать своими скудными средствами [189]. В приграничных стычках или в одном сухопутном сражении они были непобедимы, но в планомерной войне против такой державы, как Афины, у них не было ни способного руководства, ни привычки к согласованности и дисциплине, ни денег, чтобы воспользоваться [p. 109] редкими и случайными возможностями для успешной атаки. Возможно, они смогут укрепиться где-нибудь в Аттике, но серьёзного вреда это не нанесёт; зато на море их слабость и беспомощность будут полными, и непобедимый афинский флот позаботится о том, чтобы так и оставалось. Им также не удастся переманить опытных иностранных моряков с афинских кораблей, даже если они займут деньги в Олимпии или Дельфах [190]: ведь помимо того, что моряки зависимых островов окажутся в убытке, согласившись на более высокую плату при неизбежной мести Афин, – сами Афины в случае нужды смогут укомплектовать флот своими гражданами и метеками: у них в стенах города было больше и лучших кормчих и гребцов, чем во всей остальной Греции.
Была лишь одна уязвимая сторона: Аттика, к несчастью, не была островом – она оставалась открытой для вторжения и разорения. Афинянам пришлось бы с этим смириться, не совершая опрометчивых попыток дать сухопутное сражение, чтобы предотвратить его. У них было достаточно земель за пределами Аттики, как островных, так и континентальных, чтобы обеспечить свои нужды, и они, в свою очередь, могли с помощью флота опустошать земли пелопоннесцев, у которых не было запасных территорий [191].
«Не скорбите о потере земель и домов (продолжал оратор): сохраните вашу скорбь для людей: не земли и дома приобретают людей, но люди приобретают их. [192] Более того, если бы я думал, что смогу убедить вас, я призвал бы вас самих выступить и опустошить их, показав пелопоннесцам, что, по крайней мере перед ними, вы не станете унижаться. И я мог бы привести ещё множество доводов, вселяющих уверенность в успехе, если бы вы только согласились не стремиться к расширению владений во время войны и не брать на себя новых, добровольных рисков; ибо я всегда боялся наших собственных ошибок больше, чем замыслов врага. [193] Но всё это – вопросы для будущего обсуждения, когда дойдёт до практических действий: сейчас же отошлём этих послов с ответом:
Мы разрешим мегарцам пользоваться нашими рынками и гаванями, если лакедемоняне, со своей стороны, прекратят свои (ксенеласии, или) внезапные изгнания нас и наших союзников со своей территории, – ибо в перемирии нет ничего, что запрещало бы то или другое.
Мы оставим греческие города автономными, если они были автономными на момент заключения перемирия, – и как только лакедемоняне предоставят своим союзным городам автономию, какую каждый из них свободно выберет, а не ту, что удобна Спарте.
Мы готовы дать удовлетворение согласно условиям перемирия, но не начнём войну первыми, а лишь отразим тех, кто её начнёт.
Такой ответ одновременно справедлив и достоин этого города.
Мы должны принять как неизбежность, что война грядёт: чем охотнее мы её встретим, тем слабее будет натиск врагов. И где опасность величайшая, там и честь величайшая – как для государства, так и для частного гражданина.
Воистину, наши отцы, сражаясь с персами, – не имея таких средств, как мы, и даже будучи вынуждены оставить всё, что у них было, – не только отразили захватчиков, но и возвысили государство до нынешнего уровня скорее мудрыми действиями, чем удачей, и отвагой, превосходившей их реальные силы. Мы не должны уступать им: мы должны отражать врагов всеми способами и оставить нашим потомкам неослабленную мощь.» [194]
Эти воодушевляющие слова Перикла убедили большинство собрания, и послам был дан ответ, как он и предлагал, по каждому из обсуждаемых пунктов. Кроме того, им было заявлено по общему вопросу о мире или войне, что афиняне готовы обсудить все претензии к ним согласно перемирию, путём равного и дружелюбного арбитража, – но не станут подчиняться властным требованиям. [195] С этим ответом послы вернулись в Спарту, и переговоры прекратились.
Из рассказа Фукидида явствует, что афинский народ пришёл к этому решению не без сильного сопротивления и страха перед последствиями, особенно перед разорением Аттики. Значительное меньшинство выступало против мегарского декрета – ловко подготовленной Спартой почвы для раскола единства врага и усиления партии, противостоящей Периклу. Однако из того же историка ясно следует – особенно из действий Коринфа и Спарты, как он их излагает, – что Афины не могли избежать войны без такого отказа от достоинства и власти, на который ни один народ ни при каком правлении не согласится и который лишил бы их даже минимальной безопасности их личных прав. Принять предложенную войну было не просто благоразумно, но необходимо: тон требований, взятый спартанскими послами, превратил бы любую уступку в признак слабости и страха.
Если рассказ Фукидида подтверждает суждение Перикла по этому важному вопросу, [196] то он же показывает, что Афины были не менее правы с точки зрения общепринятых принципов международных отношений. Не Афины, как сами спартанцы [197] позже признали, а их враги нарушили условия перемирия, поощряя мятеж Потидеи и угрожая вторжением в Аттику. Не Афины, а их враги, нарушив перемирие, выдвинули ряд непомерных требований, чтобы создать как можно более убедительный повод для войны. [198]
Аргументация, приведённая Периклом в оправдание войны как с точки зрения справедливости, так и благоразумия, во всех основных моментах подтверждается беспристрастным свидетельством Фукидида. И хотя совершенно верно, что честолюбие Афин было велико, а рост их могущества – поразителен в течение тридцати пяти лет между отражением Ксеркса и Тридцатилетним миром, – не менее верно и то, что по условиям этого мира они понесли значительные потери и не приобрели ничего, что могло бы компенсировать эти потери в течение четырнадцати лет между миром и Керкирским союзом. Политика Перикла не была направлена на внешнее усиление или на усиление притеснений и захватов в отношении других греческих государств: даже Керкирский союз отнюдь не был им спровоцирован и был принят, прежде всего, с учётом обязательств по действующему перемирию. В то же время обстоятельства, приведшие к этому союзу, свидетельствуют о более активном стремлении Коринфа, чем Афин, завладеть керкирским флотом. Принято приписывать Пелопоннесскую войну честолюбию Афин, но это односторонний взгляд. Агрессивные настроения – отчасти страх, отчасти ненависть – исходили от пелопоннесцев, которые знали, что Афины желают сохранить мир, но были полны решимости не позволить им оставаться в том положении, в котором они оказались по условиям Тридцатилетнего мира. Их целью было напасть на Афины и разрушить их империю как опасную, несправедливую и антигреческую. Таким образом, война отчасти была борьбой принципов, включавшей провозглашение права каждого греческого государства на автономию против Афин; отчасти – борьбой за власть, в которой честолюбие Спарты и Коринфа было не менее заметным, а в начале – даже более агрессивным, чем афинское. [стр. 113]
В соответствии с вышесказанным, первый удар в войне был нанесён не Афинами, а против них. После решительного ответа, данного спартанским послам, с учётом предыдущих событий и приготовлений, уже идущих среди пелопоннесских союзников, – перемирие едва ли можно было считать действующим, хотя формального объявления о разрыве не последовало. Несколько недель прошло в ограниченном и недоверчивом общении; [199] хотя частные лица, пересекавшие границы, не считали необходимым брать с собой глашатая, как во время настоящей войны. Если бы чрезмерное честолюбие в сравнении с врагами было на стороне Афин, это было бы время нанести первый удар, который, конечно, имел бы высокие шансы на успех до завершения их приготовлений. Но Афины строго соблюдали условия перемирия, и роковая череда взаимных агрессий, которой суждено было разорвать Элладу на части, была начата их врагом и соседом.
Небольшой город Платея, по-прежнему освященный памятью о победе над персами, а также покровительством Павсания, стал местом этой неожиданной авантюры. Он располагался в Беотии, к северу от Киферона, на границе с Аттикой с одной стороны и с Фиванской территорией – с другой, от которой его отделяла река Асоп. Расстояние между Платеей и Фивами составляло около 70 стадий (чуть более 8 миль).
Хотя платейцы по происхождению были беотийцами, они полностью отделились от Беотийского союза и находились в тесном союзе с афинянами, включая частичное обладание гражданскими правами. Афиняне защищали их от вражды Фив уже почти три поколения. Однако, несмотря на столь долгий срок, фиванцы как главы Беотийского союза по-прежнему считали отделение Платеи несправедливостью. Олигархическая группировка богатых платейцев поддерживала их интересы, [200] стремясь свергнуть демократическое правление в городе, устранить своих политических соперников – его лидеров – и установить олигархию с собой во главе.
Навклид и другие члены этой группировки вступили в тайный сговор с Евримахом и фиванской олигархией. Для обеих сторон это казалось заманчивой возможностью: поскольку война была уже близка, они решили воспользоваться этим неопределённым промежутком времени, пока не были выставлены караулы и не начались военные приготовления, чтобы неожиданно захватить Платею ночью. Более того, для этого был выбран период религиозного праздника, чтобы застать население врасплох. [201]
Так, дождливой ночью в конце марта 431 г. до н.э. [202] отряд из чуть более 300 фиванских гоплитов под командованием двух беотархов – Пифангела и Диемпора, с Евримахом в их рядах, – подошёл к воротам Платеи, когда горожане крепко спали. Навклид и его сторонники открыли ворота и провели их на агору, которую они заняли в полном боевом порядке, не встретив ни малейшего сопротивления. Лучшие силы фиванской армии должны были подойти к Платее на рассвете, чтобы поддержать их. [203] [с. 115]
Навклид и его друзья, движимые политической неприязнью, стремились провести фиванцев к домам своих противников – лидеров демократической партии, чтобы те были схвачены или убиты. Однако фиванцы отказались: считая себя теперь хозяевами города и уверенные в скором прибытии значительного подкрепления на рассвете, они полагали, что смогут запугать граждан, добившись их кажущегося добровольного согласия на свои условия без применения насилия. Кроме того, они хотели скорее смягчить и оправдать, чем усугубить уже совершенный вопиющий акт агрессии.
Соответственно, их глашатаю было приказано объявить публичный призыв ко всем платейцам, желающим вернуться к древним племенным связям и [с. 116] Беотийскому союзу, выйти и встать в ряды фиванцев как братьям по оружию. Платейцы, внезапно разбуженные потрясающей вестью о том, что их злейший враг овладел городом, в темноте предположили, что число нападавших гораздо больше, чем было на самом деле. Несмотря на сильную привязанность к Афинам, они сочли свое положение безнадежным и начали переговоры. Однако вскоре, даже в темноте, по ходу обсуждения они поняли, что численность фиванцев не так велика, чтобы с ними нельзя было справиться, – и быстро ободрились, решив атаковать. Чтобы передвигаться незаметно, они пробивали стены между домами для связи друг с другом, [204] а также сооружали баррикады из повозок на подходящих улицах.
Незадолго до рассвета, когда приготовления были завершены, они вышли из домов и сразу вступили в рукопашную с фиванцами. Те, все еще считая себя хозяевами города и надеясь на благополучный исход переговоров с наступлением дня, оказались застигнуты врасплох и в невыгодном положении: они провели всю ночь под проливным дождем в незнакомом городе, с узкими, извилистыми и грязными улицами, которые было бы трудно найти даже [с. 117] при свете дня. Тем не менее, оказавшись под внезапным натиском, они по мере возможности сомкнули ряды и два или три раза отбили атаки платейцев. Но те продолжали наступать с громкими криками, а женщины вопили, бросали черепицу с плоских крыш, пока фиванцы не дрогнули и не обратились в бегство.
Однако бежать было не легче, чем сопротивляться: они не могли найти выход из города, и даже ворота, через которые вошли (единственные открытые), оказались заперты платейцем, засунувшим в них острие дротика вместо засова. Рассеявшись по городу и преследуемые людьми, знавшими каждую пядь земли, некоторые взобрались на стену и спрыгнули вниз – большинство разбилось насмерть; немногие спаслись через незапертые ворота, перерубив засов топором, поданным женщиной; но большая часть вбежала в открытые двери большого амбара у стены, приняв их за проход к городским воротам. Там они оказались в ловушке, и платейцы сначала хотели поджечь здание, но в конце концов заключили соглашение, по которому все фиванцы в городе сдавались на милость победителя. [205]
Если бы подкрепление из Фив прибыло вовремя, этой катастрофы можно было избежать. Но проливной дождь и темнота замедлили их продвижение, а река Асоп так разлилась, что ее едва можно было перейти вброд. Поэтому, когда они подошли к воротам Платей, их товарищи внутри уже были перебиты или взяты в плен. Что именно случилось, наружные фиванцы не знали, но немедленно решили захватить все, что могли, – людей и имущество на платейской территории (жители еще не успели укрыться за стенами), чтобы обменять их на пленных фиванцев.
Однако прежде чем они успели что-либо предпринять, из города вышел глашатай, укоряя их за святотатственное нарушение перемирия и предупреждая не совершать насилия за стенами. Если они уйдут, не причинив больше вреда, пленные будут отпущены; в противном случае их немедленно казнят. На этих условиях было заключено и скреплено клятвой соглашение, и фиванцы отступили без дальнейших действий.
По крайней мере, такова была фиванская версия событий, предшествовавших их отходу. Однако платейцы рассказывали совсем иное: они отрицали, что давали четкое обещание или приносили клятву, и утверждали, что лишь согласились отложить решение о судьбе пленных до переговоров, на которых можно было бы достичь приемлемого соглашения.