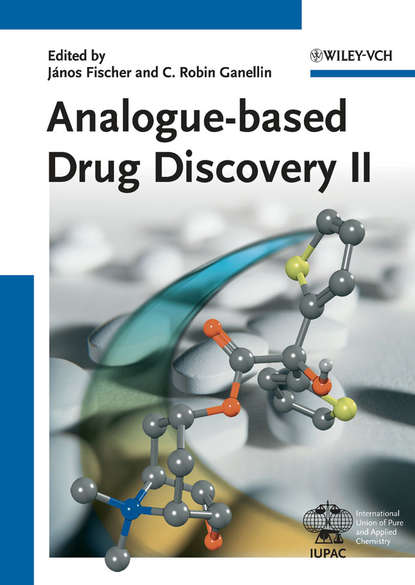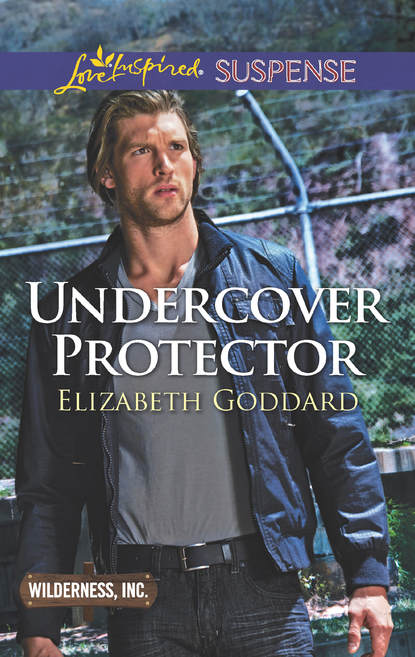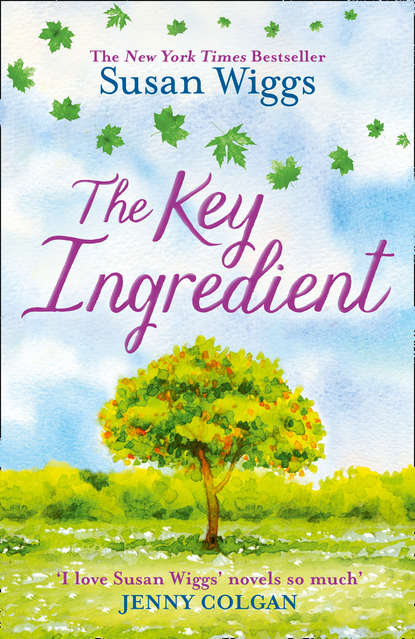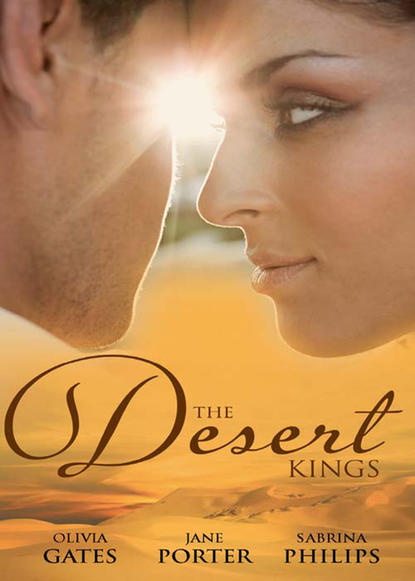Уроки словесности

- -
- 100%
- +
– Вы хотите сказать, что я была неправа, что во всём виновата я, что вы действительно меня любили?
– Любил вас? – грубо сказал он, отбрасывая её руки. – Конечно, я вас любил, я всегда буду вас любить. Я никогда не переставал вас любить. Это вы меня не любили. Во всём была ваша вина.
Он опёрся локтями о колени и подпёр подбородок руками. Он дышал учащённо. Сцена увлекла его в свой стремительный поток. Он закрыл глаза, пытаясь ухватиться за что-нибудь, чтобы удержаться, – за какой-нибудь канат, с помощью которого он мог бы снова выбраться на берег. Внезапно рука легла ему на шею, лицо прижалось к его лицу. Губы коснулись его руки, и её голос, невероятно смягчившийся и настроенный на лад увертюры их любви, произнёс:
– О, прости меня, дорогой, прости! Если ты всё ещё любишь меня – в это невозможно поверить, – но если да, ах, да! – прости меня, и мы сможем всё забыть! Дорогой, прости меня! Я так тебя люблю!
Он сидел совершенно неподвижно, совершенно безмолвно.
– Ты не можешь меня простить? – снова начала она. Он вдруг вскочил.
– Я женат, – сказал он. Он глубоко вздохнул и поспешно продолжил, стоя перед ней, но не глядя на неё: – Я не могу просить у вас прощения, я никогда не прощу себя.
– Это не имеет значения, – сказала она и рассмеялась. – Я… я не говорила всерьёз. Я видела, что вы пытаетесь разыграть старую комедию, и решила вам подыграть. Если бы я знала, что вы женаты… но это ведь были всего лишь ваши перчатки, а мы такие старые знакомые! Начинается следующий танец. Пожалуйста, идите, я не сомневаюсь, мой партнёр меня найдёт.
Он поклонился, бросил на неё один взгляд и ушёл. На полпути вниз по лестнице он обернулся и вернулся. Она всё так же сидела, как он её оставил. Сердитые глаза, которые она на него подняла, были полны слёз. Она выглядела так же, как десять лет назад, когда он вернулся к ней, и проклятые перчатки всё испортили. Он ненавидел себя. Зачем он играл с огнём и вызвал этого призрака, чтобы терзать её? Это был такой красивый огонь и такой прекрасный призрак. Но она была ранена – он её ранил. Теперь она будет винить себя за то, давнее прошлое; а что до нового прошлого, так недавно бывшего настоящим, о нём и думать было невыносимо.
Сцену нужно было как-то завершить. Он позволил ей уязвить свою гордость, своё самоуважение. Он должен был их исцелить. Лёгкое прикосновение было бы лучшим выходом.
– Послушайте, – сказал он, – я просто хотел сказать, что понял, что вы не говорили всерьёз. Как вы и сказали, между такими старыми друзьями это ничего не значит. И… и… – Он искал, чем бы ещё её утешить. В недобрый час, всё ещё чувствуя прикосновение её губ к своей руке, он сказал: – И насчёт перчаток. Не вините себя. Это была не ваша вина. Вы были совершенно правы. Я вернулся именно за перчатками.
Затем он оставил её, а на следующий день отправился в Шотландию, чтобы присоединиться к своей жене, к которой он, по привычке, был умеренно привязан. Он до сих пор хранит белую перчатку, которую она поцеловала, и поначалу корил себя всякий раз, когда смотрел на неё. Но теперь он лишь сентиментальничает над ней время от времени, если бывает не в духе. Он чувствует, что его глупое поведение на том балу в Сиденхеме было почти искуплено благородством, с которым он солгал, чтобы пощадить её, и лёгким, изящным штрихом, которым он завершил сцену.
Он, безусловно, её завершил. Несколькими короткими, простыми словами он добился трёх вещей. Он разрушил тот свой идеальный образ, который она лелеяла годами; он убил бледный росток надежды, который она так любила взращивать, – надежды на то, что, возможно, в том далёком прошлом виновата была она, а не он, кого она любила; он втоптал в грязь живую розу, которая цвела бы всю её жизнь, – веру в то, что он любил, любит её, – живую розу, которая обладала бы волшебной силой погасить огонь стыда, зажжённый тем непрошеным поцелуем, – огонь, который вечно терзает, подобно адскому пламени, – жжёт, но не испепеляет её самоуважение.
Он, без сомнения, завершил сцену.
Очевидное
Он обладал литературным чутьём, но оно было у него своего рода инстинктом наоборот. Он тонко чувствовал, что уместно в искусстве, но это чувство никак не уравновешивалось видением того, что уместно в жизни. Ему с самых юных лет было трудно отделить жизнь от искусства, а позже он и вовсе счёл их неразрывно сплетёнными. И в конце концов распутать и разделить их стало для него делом чести.
Впервые он понял, что любит её, на вечеринке по случаю её совершеннолетия. Его семья и её жили на одной и той же сумрачной лондонской площади, а их сады в Хейзлмире разделяла лишь скрытая ограда. Он знал её всю жизнь. Её совершеннолетие случилось всего через пару дней после его возвращения из Германии, где он три года лениво изучал философию, и вид её захватил его дух. Используя избитый штамп торопливого романиста, слишком торопливого, чтобы придумать новую фразу для идеи, старой как весеннее пробуждение природы, можно сказать: он оставил дитя, а нашёл женщину. На ней было мягкое атласное белое платье, в складках которого проглядывал розовый оттенок. В её светло-каштановых волосах алели цветы розовой мальвы. Глаза её сияли от волнения – ведь на этом празднике она была богиней. Он потерял голову, протанцевал с ней пять раз и унёс с собой смятый цветок мальвы, выпавший из её волос во время последнего лансье, за которым он наблюдал со стороны. Все танцы с ней были вальсами. И лишь когда, оставшись один в отеле, он вытащил цветок мальвы вместе с бальной книжкой, он в полной мере осознал всю пресную банальность новой ситуации.
Он влюбился – во всяком случае, был без ума, – и эта девушка была той самой, о чьих прелестях, состоянии и общей пригодности в качестве партии для него ему твердили с тех самых пор, как он был неоперившимся юнцом в Оксфорде, а она – четырнадцатилетней девчонкой-сорванцом в коротком платьице и длинных чёрных шёлковых чулках. Все всегда говорили, что это самый очевидный вариант. И вот теперь он, в кои-то веки, сделал в точности то, чего от него ждали, и его тонкое литературное чутьё взбунтовалось. Хуже всего было то, что она, казалось, не питала к нему отвращения. Тысячу раз лучше было бы любить, тосковать и так и не удостоиться её улыбки, пожертвовать чем-то, чем угодно, и пойти своим одиноким путём. Но она ему улыбнулась, несомненно, улыбнулась, а он не хотел играть роль, так давно отведённую ему его роднёй. Ему хотелось быть Сидни Картоном. Роль Дарнея всегда казалась ему второсортной.
И всё же он не мог перестать думать о ней, и остаток года его дни и ночи превратились в беспокойные качели из желания и отторжения, наступления и отступления. Его настроения отражались в её, но всегда с опозданием на одну встречу; то есть, если во вторник он был холоден, в четверг она становилась ещё холоднее. Если в четверг он делался серьёзным, в воскресенье она была добра. Но он к тому времени уже был ледяным. Так что после того первого, безумно прекрасного вечера, когда их сердца устремились друг к другу в порыве первозданной откровенности, их настроения больше никогда не совпадали.
Это его оберегало. Её – раздражало. И обоих совершенно очаровывало.
Их семьи наблюдали за этим и с грустью пришли к абсолютному убеждению, что, как выразился её брат в разговоре с дядей, «дело швах». После чего на сцене появился некий молодящийся хлопковый брокер с подарками, и её родные начали на неё давить. Она терпеть не могла этого брокера и прямо об этом заявляла. Однажды днём все, по тщательно подстроенной случайности, куда-то подевались, и хлопковый брокер застал её одну. В тот вечер разразилась сцена. Её отец слишком много говорил о послушании и долге, её мать исполнила истерическую симфонию, до упора выжав педаль громкости, а на следующее утро девушка исчезла, оставив на подушечке для булавок традиционную прощальную записку.
Так вот, обе семьи, будучи близкими союзниками во всех отношениях, совместно купили участок земли возле гольф-клуба в Литтлстоуне и построили на нём бунгало, которым поочерёдно пользовались члены того или другого дома, в зависимости от того, какое дружеское соглашение им в тот момент приходило в голову. Но в это время года люди уныло проводили рождественские праздники в своих городских домах.
В тот день, когда хлопковый брокер потерпел свою неудачу, весь мир внезапно показался никчёмным человеку с цветком мальвы в бумажнике, потому что он встретил её на балу, и он был нежен, а она, отражая его настроение их последней встречи, была ледяной. Поэтому он нагло солгал своим родным, сказав, что собирается провести неделю-другую со старым приятелем, оставшимся на каникулы в Кембридже, а вместо этого выбрал противоположную сторону света, сел на поезд до Нью-Ромни и пешком дошёл до приземистого одноэтажного бунгало у моря. Здесь он отпер дверь семейным ключом и, с помощью ящика припасов из магазина, который вместе с его саквояжем привезли за ним на ручной тележке, принялся встречать Рождество в одиночестве. Это, по крайней мере, было нелитературно. Человек из книги так бы точно не поступил. Он разжёг огонь в столовой, но дымоход был сырым и ужасно дымил, так что, наевшись консервов, он был вынужден дать огню погаснуть и сидеть в своей подбитой мехом шинели у засыпанного золой, быстро остывающего камина, выкуривая трубку за трубкой, предаваясь мрачным размышлениям. Он думал обо всём. О проклятом благоволении, которое его семья была готова оказать союзу, который он не мог заключить, о её сводящих с ума колебаниях, о своей собственной идиотской переменчивости. Он зажёг лампу, но она отвратительно пахла, и он её задул, а свечи зажигать не стал, потому что это было слишком хлопотно. Так ранние зимние сумерки сгустились в ночь, и резкий северный ветер принёс снег, который теперь пушинками касался окон.
Он думал о тёплой, уютной столовой на Рассел-сквер, о сборище тётушек, дядюшек и кузенов, пусть и не близких по духу, но всё же живых людей, и дрожал в своей меховой шинели в ледяном одиночестве, проклиная себя за дурака, каковым он себя и считал.
И в тот самый миг, когда он себя проклинал, у него перехватило дыхание, а сердце подпрыгнуло от слабого, но безошибочного звука ключа в замке входной двери. Если и существует человек, не слишком отдалившийся от своих волосатых предков, чтобы утратить привычку навострять уши, то это был он. Он навострил уши, насколько это возможно для современного человека, и прислушался.
Ключ заскрежетал в замке – заскрежетал и повернулся; дверь открылась и снова захлопнулась. Что-то поставили в маленьком коридоре, поставили с глухим стуком и совершенно без предосторожностей. Он услышал, как рука скользнула по дощатой перегородке. Он услышал, как поднялась и опустилась щеколда кухонной двери, и услышал чирканье и вспышку зажжённой спички.
Он сидел неподвижно. Он поймает этого грабителя с поличным.
Сквозь неплотно пригнанные перегородки наскоро сколоченного бунгало он слышал, как незваный гость беззаботно передвигается по кухне. Ножки стульев и столов скрежетали по кирпичному полу. Он снял ботинки, встал и прокрался по коридору к двери кухни. Она была приоткрыта. Из неё падала чёткая полоска света. Мягко ступая в одних носках, он подошёл к ней и заглянул внутрь. На столе, в чайном блюдце, горела одна свеча. Слабое сине-жёлтое мерцание исходило от нескольких веток на дне камина.
На коленях перед ним, задыхаясь от попыток раздуть сырые ветки в пламя, сгорбился грабитель. Женщина. Девушка. Она отложила в сторону шляпку и плащ. Первый взгляд на неё был подобен вихрю, пронёсшемуся над сердцем и разумом. Ибо светло-каштановые волосы, в которых играл свет свечи, были похожи на Её дорогие каштановые волосы, а когда она внезапно встала и повернулась к двери, его сердце замерло, потому что это была Она – она сама.
Она его не видела. Он отступил, со всей тишиной, на какую были способны его истерзанные нервы, и снова сел в столовой, не снимая меховой шинели. Она его не слышала. На несколько мгновений он был совершенно ошеломлён, затем подкрался к окну. В пронзительной тишине этого места он слышал, как тяжёлые хлопья снега мягко шлёпают по стеклу.
Она была здесь. Она, как и он, бежала в это убежище, уверенная, что в это время года оно пустует и обе семьи, имеющие на него право, им не пользуются. Она была там – он был здесь. Почему она сбежала? Вопрос не ждал ответа; он утонул в другом вопросе. Что ему делать? Вся литературная душа этого человека вопила против любого из очевидных вариантов действий.
«Я могу войти, – сказал он себе, – застать её врасплох, сказать, что люблю её, а затем с достоинством удалиться, оставив её здесь одну. Это банально и драматично. Или я могу улизнуть так, чтобы она и не узнала, что я здесь был, и оставить её провести ночь беззащитной в этой адской ледяной конуре. Это тоже достаточно банально, видит бог! Но какой смысл быть разумным человеческим существом со свободой воли, если ты не можешь сделать ничего, кроме литературно и романтически очевидного?»
Тут внезапный шум заставил его вздрогнуть. В следующий миг он вздохнул с облегчением. Она всего лишь уронила решётку для гриля. Когда та с грохотом и ритмичным дребезжанием упала на кухонные плиты, мысль пронеслась в нём, словно райская река: «Если бы она любила меня, если бы я любил её, какой бы это был час и какой момент!»
Тем временем она, чьи руки онемели от холода, роняла гремящие решётки не далее чем в пяти ярдах от него.
Предположим, он выйдет на кухню и внезапно объявится!
Как глупо, как очевидно!
Предположим, он тихонько уйдёт и отправится в гостиницу в Нью-Ромни!
Как отчаянно глупо! Как более чем очевидно!
Предположим, он… но третий вариант ускользнул от отчаянной хватки его тонущего воображения, оставив его цепляться за соломинку вопроса. Что ему делать?
Внезапно ему в голову пришла поистине рыцарская и небанальная идея, идея, которая спасёт его от пропасти очевидного, зияющей с обеих сторон.
Там был сарай для велосипедов, где также хранились дрова, уголь и всякий хлам. Он проведёт ночь там, согреваясь в своей меховой шинели и своей решимости не позволять книжным персонажам диктовать ему поведение. А утром – сильный великим отречением от всех возможностей, которые таила в себе эта вечерняя встреча, – он придёт и постучит в парадную дверь, как любой другой человек, и… поживём – увидим. По крайней мере, он будет оберегать её покой и сможет защитить дом от бродяг.
Очень тихо и осторожно, в полной темноте, он засунул свою сумку за диван, накрыл ящик с припасами скатертью со столика, тихо выскользнул наружу и тихо открыл входную дверь; открылась она тихо, но захлопнулась с безошибочным щелчком, который резанул ему слух, когда он, стоя на одной ноге на заснеженном пороге, боролся с узлами на шнурках.
Велосипедный сарай был бескомпромиссно тёмным и пах угольными мешками и парафином. Он нашёл угол – между углём и дровами – и сел на пол.
«К чёрту шинель», – ответил он на сомнение, хороша ли угольная пыль и щепки в качестве подстилки для этого триумфа искусства с Бонд-стрит. Так он и сидел, полный сдержанной радости от мысли, что он оберегает её, что он, бессонный, неутомимый, стоит на страже, готовый по первому знаку броситься ей на помощь, если ей понадобится защита. Мысль была чрезвычайно успокаивающей. В сарае было холодно. Меховая шинель была тёплой. Через пять минут он спал мирно, как младенец.
Проснулся он от света большого фонаря в глазах и треска дерева в ушах.
Она была там – склонившись над грудой вязанок, отламывая веточки и складывая их в подол своего подобранного синего платья; мерцающий шёлк её нижней юбки отливал зелёным. Его частично скрывал брошенный велосипед и лейка.
Он едва осмеливался дышать.
Она невозмутимо ломала ветки. Затем, как молния, повернулась к нему.
– Кто здесь? – спросила она.
Его осенило – и это, по крайней мере, не было глупо или очевидно. Он скорчился в темноте за бочкой с парафином, выскользнул из меховой шинели и сунул руки в угольную пыль.
– Не будьте жестоки к бедному бродяге, мэм, – пробормотал он, отчаянно втирая угольную пыль в лицо, – вы бы и собаку в такую ночь не выгнали, не то что бедолагу безработного!
Говоря это, он восхищался смелостью девушки. Одна, в милях от любого другого дома, она встретила бродягу в сарае так же спокойно, как если бы это была муха в масле.
– Вам здесь не место, знаете ли, – бойко сказала она. – Зачем вы пришли?
– Укрыться, мэм. Я ничего не возьму, что мне не принадлежит, ни кусочка угля, мэм, ни за что на свете!
Она повернула голову. Ему почти показалось, что она улыбнулась.
– Но я не могу позволить бродягам здесь ночевать, – сказала она.
– Я ведь не какой-нибудь обычный бродяга, – сказал он, входя в роль, как он часто делал на сцене в дни своего участия в любительском драмкружке. – Я порядочный рабочий человек, мэм, видавший лучшие дни.
– Вы голодны? – спросила она. – Я дам вам что-нибудь поесть перед уходом, если вы подойдёте к двери через пять минут.
Он не мог отказаться, но когда она войдёт в дом, он сможет сбежать. Поэтому он сказал:
– Да благословит вас небо! Я умираю с голоду, мэм, да ещё в канун Рождества!
На этот раз она действительно улыбнулась, в этом не было никаких сомнений. Он всегда находил её улыбку очаровательной. Она обернулась у двери, и её взгляд последовал за лучами фонаря, пронзавшими темноту, где он съёжился.
Как только он услышал, что дверь дома захлопнулась, он вскочил и осторожно переложил меховую шинель на поленницу. Бежать, немедленно бежать! Но как он мог явиться в Нью-Ромни в меховой шинели и с лицом, как у угольщика? Ранее днём он набрал ведро воды из колодца; немного должно было остаться; колодец был рядом с задней дверью. Он на цыпочках прошёл по снегу и мылся, мылся и мылся. Он вытирал лицо и руки носовым платком, который казался странно маленьким и холодным, когда дверь внезапно открылась, и там, совсем рядом, стояла она, её силуэт вырисовывался на фоне тёплого сияния огня и свечей.
– Входите, – сказала она, – там вам совершенно не видно, как умываться.
Прежде чем он успел опомниться, её рука легла на его руку, и она втащила его в тепло и свет.
Он посмотрел на неё, но её глаза были устремлены на огонь.
– Я дам вам тёплой воды, и вы сможете умыться у раковины, – сказала она, закрывая дверь и снимая чайник с огня.
Он мельком увидел своё лицо в квадратном зеркальце над краном раковины.
Стоило ли продолжать притворяться? Но лицо его всё ещё было очень чёрным. И она, очевидно, его не узнала. Возможно, конечно же, у неё хватит такта удалиться, пока бродяга умывается, чтобы он мог снять пальто? Тогда он сможет сбежать, и ситуация будет спасена от полного фарса.
Но налив горячей воды в таз, она села в виндзорское кресло у огня и уставилась на раскалённые угли.
Он умывался.
Он умывался, пока не стал совершенно чистым.
Он вытер лицо и руки жёстким полотенцем.
Он тёр их, пока они не стали алыми и блестящими. Но он не смел обернуться.
Казалось, из этого положения нет иного выхода, кроме как через долину унижения. Она всё сидела, глядя в огонь.
Умываясь, он краем глаза видел круглый стол, уставленный фарфором, стеклом и серебром.
«Да ведь… накрыто на двоих!» – сказал он себе. И в одно мгновение ревность раз и навсегда ответила на вопросы, которые он задавал себе с августа.
– Вы ещё не умылись? – наконец спросила она.
Что он мог ответить?
– Вы ещё не умылись? – повторила она и назвала его по имени. Тут он обернулся достаточно быстро. Она откинулась на спинку стула и смеялась над ним.
– Как вы меня узнали? – сердито спросил он.
– Ваш бродяжий голос мог бы меня обмануть, – сказала она, – вы это делали просто ужасно хорошо! Но, видите ли, я наблюдала за вами целую вечность, прежде чем вы проснулись.
– Тогда доброй ночи, – сказал он.
– Доброй ночи! – сказала она. – Но ещё и семи нет!
– Вы кого-то ждёте, – сказал он, драматично указывая на стол.
– Ах, это! – сказала она. – Да, это было для… для бедного человека, который видал лучшие дни! У меня ничего нет, кроме яиц, но я не могла выгнать и собаку за дверь в такую ночь, не накормив её!
– Вы действительно хотите сказать?..
– А почему бы и нет?
– Это великолепно!
– Это пикник.
– Но?.. – сказал он.
– О, ну! Уходите, если хотите! – сказала она.
Это были не только яйца, это были всевозможные вещи из того ящика с припасами. Они ели и разговаривали. Он сказал ей, что ему наскучило в городе, и он искал облегчения в одиночестве. Она сказала ему, что у неё был тот же случай. Он рассказал ей, как услышал её приход, и как ему было противно выбирать либо очевидный путь – пойти за ней на кухню, сказать: «Здравствуйте!» и удалиться в Нью-Ромни, либо ещё более очевидный путь – улизнуть, не спросив, как у неё дела. И он рассказал ей, как решил охранять её из велосипедного сарая. И как его осенило это угольно-чёрное вдохновение. И она засмеялась.
– Это было гораздо более литературно, чем всё, что вы могли бы придумать, – сказала она. – Прямо как в книге. И ох, вы не представляете, как смешно вы выглядели.
Они оба засмеялись, и наступила тишина.
– Знаете, – сказал он, – я с трудом могу поверить, что это наша первая трапеза наедине. Такое чувство, будто…
– Забавно, – сказала она, торопливо улыбнувшись ему.
Он не улыбнулся. Он сказал:
– Я хочу, чтобы вы мне сказали, почему вы были так ангельски добры, почему позволили мне остаться? Почему накрыли этот прелестный стол на двоих?
– Потому что мы никогда не были в одном настроении в одно и то же время, – отчаянно сказала она, – и почему-то я подумала, что сегодня вечером будем.
– В каком настроении? – неумолимо спросил он.
– Ну… весёлом, бодром, – сказала она с едва заметным колебанием.
– Понятно.
Снова наступила тишина. Затем она сказала голосом, который слегка дрожал:
– Моя старая гувернантка, мисс Петтингилл, вы помните старушку Пет? Так вот, она приезжает поездом, который прибывает в три. Я отправила ей телеграмму из города. Она уже должна быть здесь…
– Должна? – вскричал он, отодвигая стул и подходя к ней. – Должна? Тогда, клянусь небом, прежде чем она придёт, я вам кое-что скажу…
– Нет, не надо! – вскричала она. – Вы всё испортите. Идите и сядьте снова. Сядьте! Я настаиваю! Позвольте мне сказать! Я всегда клялась, что когда-нибудь скажу!
– Что? – сказал он и сел.
– Потому что я знала, что вы никогда не решитесь мне сказать…
– Сказать вам что?
– Что угодно – из страха, что вам придётся сказать это так же, как кто-то другой сказал это до вас!
– Сказал что?
– Что угодно! Сидите смирно! Сейчас я вам всё скажу.
Она медленно обошла стол и опустилась на одно колено рядом с ним, оперевшись локтями на подлокотник его кресла.
– У вас никогда не хватало смелости на что-либо решиться, – начала она.
– Это то, что вы собирались мне сказать? – спросил он и смотрел ей в глаза, пока она не опустила веки.
– Нет, да, нет! Мне на самом деле нечего вам сказать. Доброй ночи.
– Вы не собираетесь мне сказать?
– Нечего говорить, – сказала она.
– Тогда я вам скажу, – произнёс он.
Она вскочила, и настойчивый стук маленького медного молоточка разнёсся по всему бунгало.
– Вот и она! – вскричала она.
Он тоже вскочил на ноги.
– И мы так ничего друг другу и не сказали! – сказал он.
– Разве? Ах, нет, не надо! Пустите меня! Вот, она снова стучит. Вы должны меня отпустить!
Он позволил ей выскользнуть из его рук.
У двери она остановилась, чтобы одарить его мягкой, странной улыбкой.
– Всё-таки это я тебе сказала! – произнесла она. – Разве ты не рад? Потому что это было ни капельки не литературно.
– Нет, не ты. Это я сказал, – возразил он.
– Только не ты! – презрительно бросила она. – Это было бы слишком очевидно.
Абсолютная ложь
Счета торговцев, аккуратно разложенные, лежали на палисандровом письменном столе, и на каждом из них – подобающая ему стопка золотых и серебряных монет. Счета в «Белом доме» оплачивались еженедельно и наличными. Так было всегда. Коричневые маркизы из тика были опущены наполовину. Кружевные занавески почти сходились на окнах. И пока снаружи июль пылал на лужайках, дорожках и клумбах, в этой комнате царил прохладный полумрак. Царили здесь и неторопливый покой, и упорядоченная лёгкость – как и в любой из тридцати пяти лет жизни Доротеи. «Белый дом» был одним из тех, где ничего не меняется. Ничто, кроме Смерти, но и Смерть, как бы она ни терзала сердце или ни калечила душу живых, была бессильна изменить внешний уклад. Какое-то время Доротея носила чёрное платье, и только ей было ведомо, сколько слёз она выплакала и на сколько долгих месяцев свет померк для неё во всём. Но слёзы не ослепили её настолько, чтобы не замечать, что старая мебель из красного дерева нуждается в зеркальной полировке, и все эти месяцы её освещал по крайней мере свет долга. Дом следовало содержать так, как его содержала покойная мать. Три чопорные служанки и садовник служили в семье с тех пор, как Доротее было двадцать, – когда она была девушкой с надеждами, мечтами и нежными фантазиями, которые, расправив яркие крылья, парили над миром, совсем иным, чем это изящное, тонкое, самосовершенствующееся, холодно-благотворительное, неизменное существование. Что ж, мечты, надежды и нежные фантазии вернулись домой, чтобы сложить крылья. Тот, кто заставил их взлететь, уехал: он отправился повидать мир. И не вернулся. Он всё ещё его осматривал; и всё, что осталось от первого девичьего романа, хранилось в нескольких аккуратных пачках писем из-за границы в ящике палисандрового стола да в дисциплинированной душе женщины, которая сидела перед ним, «сводя счета». Понедельник был днём для этого занятия. У каждого дня были свои особые обязанности, у каждой обязанности – свой особый час. Пока была жива мать, в этой жизни, которая и жизнью-то едва ли была, присутствовала любовь, чтобы её оживлять. Теперь, когда матери не стало, Доротее иногда казалось, что она и не жила все эти пятнадцать лет, да и жизнь до того была скорее не жизнью, а её сновидением. Она вздохнула.