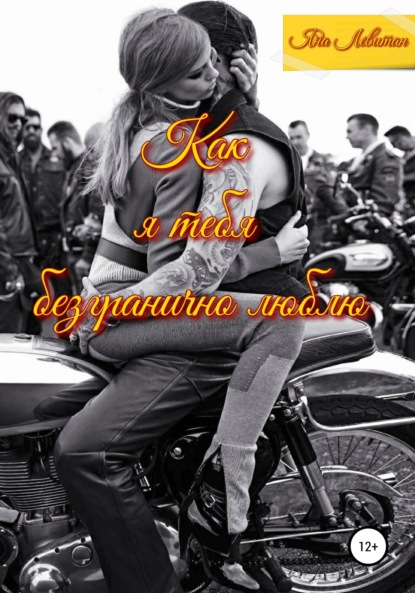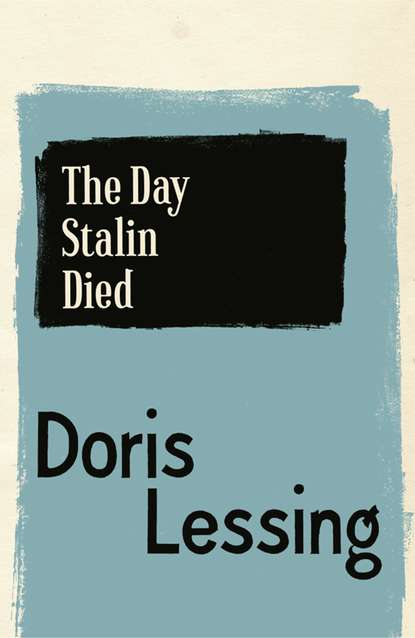«Философия Первая». Курс лекции (1923/24)
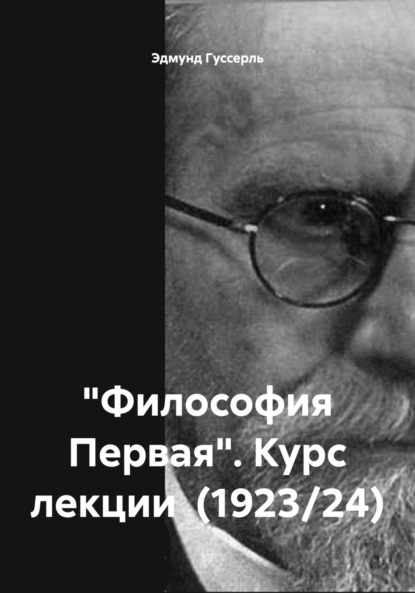
- -
- 100%
- +

О первоисточниках и обзор лекционнго курса "Философия Первая" (1923/24) Эдмунда Гуссерля.
Основная работа Эдмунда Гуссерля, известная как "Erste Philosophie" (Философия Первая), основана на его лекционных курсах, прочитанных в зимнем семестре 1923/24 года в Университете Фрайбурга. Это не книга, опубликованная самим Гуссерлем при жизни, а стенографическая запись его лекций.
Первоисточники и их публикация в Германии выглядят следующим образом:
1. Архивные Рукописи (Исходный Материал):
– Где: Оригинальные стенографические записи лекций (а также подготовительные материалы и черновики Гуссерля) хранятся в Архиве Гуссерля (Husserl-Archiv) в Лувене (Лёвене), Бельгия. Это основной источник.
– Статус: Неопубликованные рукописи.
2. Первая Публикация в Германии (Частичная и Отредактированная):
– Издание: Husserliana: Edmund Husserl – Gesammelte Werke (Гуссерлиана: Собрание сочинений Эдмунда Гуссерля).
– Том: Band VII: Erste Philosophie (1923/24). Erster Teil: Kritische Ideengeschichte.
– Редактор: Рудольф Бём (Rudolf Boehm).
– Год и Место: 1956, Гаага, Нидерланды (Издательство Martinus Nijhoff). Хотя издательство находилось в Нидерландах, серия Husserliana является основным академическим собранием сочинений Гуссерля на немецком языке, созданным и курируемым преимущественно немецкими учеными (при поддержке бельгийского архива), и она является стандартным немецким источником.
Первая Полная и Критическая Публикация (По Рукописям):
– Издание: Husserliana: Edmund Husserl – Gesammelte Werke.
– Том: Band XXXV: Einleitung in die Philosophie. Vorlesungen 1922/23.
– Редактор: Бернд Гётце (Bernd Goossens) и Ганс Райнер Зепп (Hans Rainer Sepp).
– Год и Место: 2002, Дордрехт / Бостон / Лондон (Издательство Kluwer Academic Publishers, позже перешло к Springer). *Опять же, издательство международное, но том является частью стандартной немецкоязычной академической серии Husserliana.
За основу при переводе взят Том XXXV.
Том XXXV представляет собой первую полную и критическую публикацию всего лекционного курса 1922/23 года (включая то, что позже стало "Erste Philosophie" 1923/24), основанную непосредственно на архивных рукописях Гуссерля. В нем восстанавливлен полный текст, включая части, опущенные или измененные Ландгребе, и представляет лекции в их оригинальной, менее обработанной форме. Этот том является сейчас стандартным и наиболее авторитетным источником для всего курса лекций, включая "Философию Первую" в ее изначальном объеме и контексте.
Этот самый новый том представляет собой публикацию именно курса 1923/24 года, но теперь основанную на полной рукописной версии, опубликованной в Band XXXV (2002). Он фокусируется конкретно на этом семестре, предлагая современную редакторскую обработку и аппарат. По сути, это переиздание (или специализированное издание) материала из Band XXXV, но выделенного как отдельный курс 1923/24 года.
Важное Примечание: Текст "Erste Philosophie" существует только на немецком языке в этих академических изданиях. Полного официального перевода на русский язык не существует (хотя фрагменты или цитаты могут встречаться в исследованиях и переводах других работ Гуссерля). Работа с этим текстом требует обращения к немецким томам Husserliana, прежде всего к Band XXXV (2002) или Band XL (2023). Band VII (1956) является исторически важным, но устаревшим с текстологической точки зрения.
Издания (Husserliana): Хотя текст Гуссерля свободен от авторских прав, критические издания серии "Husserliana" (тома VII, XXXV, XL) защищены авторским правом.
Что охраняется: Защите подлежит интеллектуальный труд редакторов (Rudolf Boehm, Bernd Goossens, Hans Rainer Sepp, Sebastian Luft) – их введение, комментарии, примечания, текстологическая работа, аппарат (указатели и т.д.), а также макет и оформление конкретного издания.
Важно: Все оригинальные тексты Эдмунда Гуссерля, написанные им самим и опубликованные при жизни или посмертно, перешли в общественное достояние (Public Domain) с 1 января 2009 года (или аналогичной даты в зависимости от юрисдикции, но везде срок уже истек).Предлагаемый перевод включает исключительно только текст лекций Гуссерля из Husserliana (Band XXXV) без статьи, комментарии редакторов, примечания, аппарата (элементов защищеных авторским правом редакторов/издательства).
Отсутствие эталона: Отсутствие полного русского перевода означает отсутствие устоявшихся вариантов перевода многих специфических терминов Гуссерля для этого текста. В связи с чем пришлось во многом прокладывать путь самому, сверяясь с переводами других его работ и философской традицией.
"Философия Первая" (1923/24) Эдмунда Гуссерля представляет собой фундаментальный труд, обозначаемый термином "Первая Философия", восходящим к Аристотелю и означающим у Гуссерля феноменологию как строгую науку, основание всех наук. Структура лекций начинается с Первой Части: Критической истории идей, состоящей из трех основных разделов, каждый из которых содержит несколько глав. Первый Раздел ("От идеи философии Платона к началу ее реализации в мысли Декарта в Новое время") прослеживает истоки идеала философии как строгой науки (эпистеме) у Платона, его развитие и забывание в последующей философии, и поворотный пункт – радикальный поворот Декарта, положивший начало современной попытке реализовать платоновский идеал на субъективно-трансцендентальной основе. Этот раздел включает Главу 1 ("Идея философии и ее историческое происхождение"), анализирующую возникновение и мотивы этой идеи у Платона; Главу 2 ("Обоснование логики и границы формальной апофантической аналитики"), исследующую традиционную логику как фундамент знания и указывающую на ее принципиальные границы в вопросе содержательной истинности и источника познания; Главу 3 ("Первые размышления о познающей субъективности, мотивированные скептицизмом софистов"), показывающую, как скептицизм софистов вынудил философию обратиться к проблеме субъекта познания; и Главу 4 ("Исторические начала науки о субъективности"), прослеживающую формирование первых подходов к изучению познающего субъекта после Сократа, Платона и Аристотеля. Второй Раздел ("Изначальные причины попытки эгологии в работе Локка и ее постоянная проблематика") фокусируется на Джоне Локке как на авторе первой серьезной попытки построить науку о сознании (эгологию). Глава 1 этого раздела ("Фундаментальное ограничение горизонта Локка и его причины") критикует эмпиризм и натурализм Локка, не позволившие ему достичь уровня трансцендентальной субъективности; Глава 2 ("Критическое исследование подлинной и постоянной проблематики, заключенной в исследованиях Локка") выявляет фундаментальные проблемы сознания (интенциональность, время-сознание, конституирование смысла), невольно поднятые Локком и ставшие центральными для феноменологии; Глава 3 ("Теория абстракции эмпиризма как показатель неспособности достичь идеи эйдетической науки о чистом сознании") на примере локковской теории абстракции демонстрирует непонимание эмпиризмом природы сущностей (эйдосов) и возможности эйдетической науки о сознании. Третий Раздел ("Развитие Беркли и Юмом предварительных скептических форм феноменологии и догматический рационализм") завершает исторический обзор Нового времени. Глава 1 ("От Локка к радикальному следствию, которое Беркли выводит из своей теории в форме имманентной философии") анализирует имманентную философию Беркли ("esse est percipi") как шаг к пониманию конституирующей роли сознания; Глава 2 ("Позитивизм Юма. Совершенствование скептицизма и одновременно решающий подготовительный шаг к фундаментальной трансцендентальной науке") рассматривает радикальный имманентизм и скептицизм Юма как вершину эмпиризма, чье описание потока сознания стало необходимой подготовкой для трансцендентальной феноменологии; Глава 3 ("Рационализм и метафизика в Новое время") противопоставляет эмпирико-скептической линии догматический рационализм (Декарт, Спиноза, Лейбниц, Вольф), критикуя его за некритическое принятие мира и построение спекулятивных систем без исследования трансцендентальных основ познания. Ключевая цель этой Критической истории идей – не просто историческое изложение, а использование истории как метода для выявления изначальной идеи философии как строгой науки, понимания причин исторических неудач в ее реализации (натурализм, эмпиризм, догматизм, скептицизм), обнаружения в истории предвосхищений феноменологических проблем (субъективность, интенциональность) и, в конечном счете, обоснования необходимости трансцендентальной феноменологии как подлинной "Первой Философии", способной преодолеть кризис европейских наук и выполнить платоновско-декартовский идеал абсолютно обоснованного знания через радикальное исследование трансцендентального сознания, служа необходимым введением для последующего позитивного изложения феноменологии.
Часть первая. Критическая история идей.
Раздел первый. От идеи философии у Платона до начала её реализации в мысли Декарта в Новое время
Глава первая. Идея философии и её историческое происхождение.
Лекция 1: Историческая задача придания феноменологии генетической формы Первой Философии.Название «Первая Философия» было введено, как известно, Аристотелем для обозначения философской дисциплины, которая впоследствии, в послеаристотелевскую эпоху, стала называться «Метафизикой» – термин, вытеснивший первоначальный и утвердившийся случайно. Если я сейчас возвращаюсь к выражению, предложенному Аристотелем, то потому, что оно, не будучи широко употребляемым, сохраняет свой буквальный смысл и не несёт в себе, в отличие от расплывчатых понятий метафизики, разнообразных наслоений исторической традиции, где в хаотичном смешении всплывают воспоминания о множестве метафизических систем прошлого. Как это обычно бывает с исходными терминологическими обозначениями, этот буквальный смысл служил тогда формальным образцом для теоретической цели, которую новая дисциплина стремилась реализовать через проблематику, впоследствии уточнённую более строго.
Хотя наука, которой посвящены эти лекции, отличается по своей проблематике от Первой Философии Аристотеля, этот формальный образец может нам прекрасно послужить, и потому мы принимаем этот термин и связываем с ним наши размышления.
Первая Философия – как следует понимать её буквальный смысл? Очевидно, это должна быть философия, которая в совокупности всех философий, составляющих философию как таковую, является первой. Поскольку науки не упорядочиваются ни произвольно, ни случайно, но несут в себе внутренний порядок, то есть принципы упорядочивания, естественно назвать Первой Философией ту, которая «в себе», то есть по внутренним, существенным причинам, является первой. Это может означать, что она первая по своей ценности и достоинству, так сказать, содержащая в себе самое священное в философии, тогда как остальные, «вторые» философии, были бы лишь необходимыми предварительными ступенями, своего рода преддвериями к этому священному.
Но другой, и по существенным причинам более подходящий смысл, заключается в следующем. Во всяком случае, именно его мы предпочтём здесь. Науки суть продукты деятельности, направленной к определённой цели. Объединяющая цель устанавливает в рациональной последовательности действий, стремящихся к этой цели, объединяющий порядок. Каждая из наук предлагает нам бесконечное множество мыслительных конструкций, которые мы называем истинами. Однако истины науки не группируются бессвязно, равно как и деятельность учёного не является ни бесцельным поиском, ни производством разрозненных, не связанных между собой истин. Все эти построения направляются высшими телеологическими идеями и, в конечном счёте, высшей идеей, которая есть сама цель науки. Подобно тому, как правило заранее определяет формирующую работу, все отдельные истины складываются в систематическую, то есть телеологическую форму. В устойчивых единствах они образуют телеологические связи истин более низкого или более высокого порядка; соединяются, например, в дедукции, доказательства и теории. А на высшем уровне наука обладает объединяющей идеальной теорией, универсальной теорией, которая неограниченно расширяется и возвышается по мере непрерывного прогресса науки.
То же самое должно быть справедливо и для философии, если мы рассматриваем её как науку. Следовательно, должно существовать теоретическое начало для всех её истинных построений и всех произведённых ею истин. Название «Первая Философия» тогда относилось бы к научной дисциплине начала и позволяло бы надеяться, что высшая идея, являющаяся целью философии, потребует для начала – или для замкнутой области начал – особой и строго определённой дисциплины, со своей проблематикой, касающейся подготовки мысли, точной формулировки и последующего научного решения. В силу внутренней необходимости, присущей ей, эта дисциплина должна предшествовать всем остальным философским дисциплинам и методически и теоретически их обосновывать.
Таким образом, входная дверь, начало самой Первой Философии, стало бы началом всей философии. Применительно к философствующему субъекту можно было бы сказать, что подлинным начинателем (инициатором) философии является тот, кто развивает Первую Философию истинно с её начал, оставаясь абсолютно твёрдым в истине, то есть обладая самым совершенным пониманием (Einsicht). Пока это изначальное исследование не будет осуществлено, не будет и начинателя философии в этом смысле, равно как и не будет подлинно реализованной Первой Философии. Но как только это достигнуто, появятся и начинатели философии в другом, обычном смысле слова – ученики, которые воспроизводят в собственном мышлении, с ясным пониманием, уже продуманные другими истины и таким образом сами становятся начинателями (инициаторами) Первой Философии.
Этими разъяснениями, ориентированными на смысл термина «Первая Философия», уже намечен первый формальный очерк цели моих лекций. Они должны стать серьёзной попыткой удовлетворить идее Первой Философии и, посредством дидактического изложения, одновременно показать слушателю, активно участвующему в мышлении, необходимые пути, которыми он сам может стать истинным со-начинателем Первой Философии и, следовательно, начинающим философом (инициатором).
Я должен заранее сказать, что desideratum Первой Философии ещё ни в одной из традиционных философских систем не было выполнено, то есть не было выполнено как подлинная, необходимо рациональная наука. Следовательно, речь здесь идёт не просто о возрождении старого исторического наследия и облегчении учёному труда понимания. Разумеется, этим одновременно сказано, что я никоим образом не могу признать какую-либо из исторических философий окончательной, то есть обладающей строгой научной формой, которой требует философия. Без строго научного начала нет строго научного развития. Только из строгой Первой Философии может возникнуть строгая философия, philosophia perennis, конечно, находящаяся в постоянном становлении – поскольку бесконечность принадлежит к сущности всякой науки, – но во всяком случае, в форме существенной определённости.
С другой стороны, я убеждён, что с прорывом, совершённым новой Трансцендентальной Феноменологией, уже осуществлён первый шаг к подлинной и истинной Первой Философии, хотя пока лишь в виде начального приближения, ещё неполного. В своих университетских курсах во Фрайбурге я пытался различными способами поднять это приближение на максимально возможный уровень и довести до наибольшей ясности руководящие идеи, методы и основные понятия. В то же время я стремился придать феноменологии форму развития, требуемую идеей Первой Философии, то есть форму философии начал, формирующей себя в самой радикальной философской самосознательности и в абсолютной методической необходимости.
Я полагаю, что в основном достиг этой цели во вводном курсе прошлой зимой и надеюсь в нынешнем добиться ещё большей простоты и улучшений. Во всяком случае, я уверен, что смогу показать теперь, как идея Первой Философии постепенно расширяется, как она является необходимой и подлинной реализацией универсальной научной теории, включающей, таким образом, всю теорию разумной жизни, то есть универсальную теорию познающего, оценивающего и практического разума. Более того, она призвана реформировать всю нашу научную деятельность и спасти нас от специализации наук.
Я начну с введения, которое должно предоставить нам необходимые существенные условия для нашей задачи. До сих пор мы даже не знаем, какое из многих, к сожалению, неясных понятий философии следует выбрать в качестве ориентира. Какое бы мы ни выбрали, оно предстаёт перед нами сначала лишь как пустое, абстрактное и формальное понятие, лишённое силы, чтобы воодушевить нас и мобилизовать нашу волю. Речь идёт, как мы сказали, ни много ни мало как о реформе всей философии и, включённой в неё, универсальной реформе всех наук.
В случаях такой радикальной и всеобщей реформы, в какой бы области культуры она ни происходила, движущей силой является глубокая духовная потребность. Общая духовная ситуация наполняет душу такой глубокой неудовлетворённостью, что становится невозможным продолжать жить в формах и нормах эпохи. Но чтобы осмыслить возможности изменения этой ситуации, поставить цели и принять удовлетворительные методы, очевидно, требуется глубокое размышление об источниках, породивших эту ситуацию, и о всей духовной структуре того человечества, которое неустанно стремится в окостеневших и типизированных формах духовной деятельности.
Однако такое размышление обретает полную ясность только тогда, когда оно осуществляется исходя из истории, которая, интерпретируемая из настоящего, в свою очередь полностью понятным образом проясняет это настоящее. Поэтому из хаотичного множества, предлагаемого нам наукой и философией настоящего, мы вернёмся к эпохам первых начал. Этот ретроспективный исторический взгляд должен послужить нам прежде всего духовной подготовкой и пробудить изначальные движущие силы, способные привести в движение наш интерес и нашу волю.
Если сегодня, с точки зрения убеждений, созревших за десятилетия, и оглядываясь на всю историю европейской философии, я должен назвать тех философов, которые представляются мне особенно выдающимися, я назвал бы двоих или троих: это имена великих начинателей, пионеров философии.
Во-первых, я называю Платона, или, вернее, несравненную двойную звезду Сократ–Платон. Концепция идеи истинной и подлинной науки, или того, что долгое время означало то же самое – идеи философии, а также открытие проблемы метода, ведут к этим двум мыслителям и, в завершённом виде, к Платону.
Во-вторых, я называю Декарта. Его Meditationes de prima philosophia знаменуют в истории философии совершенно новое начало, поскольку они пытаются с беспрецедентным радикализмом раскрыть абсолютно необходимое начало философии и извлечь его из абсолютного и полностью чистого самопознания. От этих памятных «размышлений о первой философии» происходит тенденция к новому развитию философии как трансцендентальной, сохранявшаяся на протяжении всей Новой эпохи. Термин «трансцендентальная философия» обозначает не только фундаментальный характер современной философии, но, как уже несомненно, характер всякой научной философии вообще и на будущее.
Рассмотрим сначала древнейшее начало – сократовско-платоновское – подлинной и радикальной философии. Но прежде – краткое предисловие.
Первая философия греков, наивно направленная на внешний мир, претерпела первый перелом в своём развитии с скептицизмом софистов. Идеи разума в его основных формах были обесценены софистической аргументацией, которая посредством впечатляющих рассуждений представила якобы доказанным, что истинное во всяком смысле – сущее в себе, прекрасное и доброе – есть не что иное, как обманчивая иллюзия. Тем самым философия утратила смысл своего назначения. Если сущее, прекрасное и доброе были лишь субъективно относительны, не могло быть ни истинных положений, ни теорий, не могло быть науки или, что тогда означало то же самое, философии.
Но это касалось не только философии. Вся деятельная жизнь лишалась своих устойчивых нормативных целей, и идея жизни, руководимой разумом, теряла свою значимость. Сократ был первым, кто распознал в вопросах, легкомысленно трактуемых в софистических парадоксах, проблемы судьбы человечества на пути к его подлинному человеческому осуществлению. Однако, как известно, его реакция на скептицизм была лишь реакцией прагматического реформатора.
Платон же, перенося значение этой реакции в науку, стал теоретико-научным реформатором. В то же время, не оставляя сократовского импульса, он направил путь автономного развития человечества – в смысле его становления как разумного человечества – прежде всего через науку, науку, реформированную в новом духе радикального понимания метода.
Сократ и Платон.
Давайте последовательно проясним, следуя их основным теориям, смысл творчества сначала Сократа, а затем Платона. Относительно Сократа мы будем руководствоваться многочисленными указаниями, переданными нам Платоном.
Этическая реформа жизни, предлагаемая Сократом, заключается в том, что он считает поистине удовлетворительной жизнью жизнь, направляемую чистым разумом. Это жизнь, в которой человек в неустанном саморефлексировании и радикальном самоисследовании критикует – давая окончательную оценку – свои жизненные цели и, разумеется, средства их достижения, пути к ним. Такая критика и такое исследование осуществляются как познавательный процесс, который, согласно Сократу, есть методическое возвращение к изначальному источнику всякого разума и его познания. Выражаясь нашим языком, это было бы возвращением к совершенной ясности, "усмотрению" (Einsicht) и "очевидности". Вся сознательная человеческая жизнь осуществляется во внутренних и внешних стремлениях и деятельностях. Но всякая деятельность мотивируется мнениями (Afeinungen) и убеждениями: мнениями о существовании реалий окружающего мира и ценностными мнениями: о том, что прекрасно и безобразно, хорошо и плохо, полезно и бесполезно и т.д. Обычно такие мнения совершенно смутны, лишены всякой изначальной ясности. Сократовский метод познания – это метод совершенного прояснения, посредством которого то, что просто считается прекрасным и хорошим, сталкивается с тем, что в совершенном прояснении само по себе проявляется как хорошее и прекрасное, и таким образом извлекается из этого истинное знание. Это подлинное знание, самоизначально порождаемое совершенной очевидностью, есть, согласно Сократу, единственное, что делает человека истинно добродетельным или, что то же самое, единственное, что может доставить ему истинное счастье, величайшее и чистейшее удовлетворение. Подлинное знание есть необходимое (и достаточное, по Сократу) условие жизни, управляемой разумом, или жизни этической. Что делает людей несчастными, заставляет их преследовать бессмысленные цели – так это иррациональность, жизнь во тьме, в ленивой пассивности, без всякого усилия к обретению ясности и тем самым подлинного знания о прекрасном и хорошем. Делая очевидным посредством рефлексии то, чего человек действительно хочет достичь, и все то, что в этой попытке он смутно предполагал – мнимые красоты и безобразия, выгоды и ущербы – истинное отделяется от ложного, подлинное от неподлинного. Оно отделяется потому, что именно в совершенной ясности содержательное существо самих вещей приходит к своей интуитивной реализации и тем самым к своему ценностному бытию или небытию.
Всякое такое прояснение сразу же приобретает образцовое значение. То, что в индивидуальном случае жизни, истории и мифа воспринимается как истинное или подлинное и как мера простого, непроясненного мнения, само собой дается как пример всеобщего. Оно воспринимается как существенно подлинное в нормальной чистой эйдетической интуиции – в которой все эмпирически случайное принимает характер несущественного и свободно изменчивого. В этой чистой (или априорной) всеобщности оно функционирует как действительная норма для всякого мыслимого отдельного случая этого сущего вообще. Если, говоря конкретно, вместо примера из повседневной жизни, мифа или истории, представить себе "какого-либо человека", который в такой-то ситуации оценивает и стремится к таким-то целям и действует, избирая такие-то пути, то, как правило, становится очевидным, что такие цели и пути подлинны или же, наоборот, что, как правило, они неподлинны и иррациональны. Последнее, конечно, когда само прекрасное и хорошее, являющееся в прояснении, очевидным образом противоречит прежде считавшемуся, упраздняя тем самым мнение за отсутствием основания.
Лекция 2: Платоновская диалектика и идея философской науки.Подведем итог: Сократ, этик-прагматик, в противовес софистике, отрицавшей разумный смысл жизни, поместил в центр этико-прагматического интереса фундаментальное противоречие, в котором пребывает вся сознательная личная жизнь – между непроясненным мнением и очевидностью. Он был первым, кто признал необходимость универсального рационального метода и открыл его фундаментальный смысл как интуитивной, априорной критики разума, выражаясь современными терминами. Или, точнее говоря, он признал, что этим фундаментальным смыслом было быть методом проясняющей саморефлексии, совершенствующейся в аподиктической очевидности как изначальном источнике окончательного. Он был первым, кто узрел существование в себе чистых и всеобщих сущностей как того, что само по себе дается абсолютным образом в чистой эйдетической интуиции. В связи с этим открытием радикальное самоисследование, требуемое Сократом для этической жизни вообще, приобретает eo ipso значимую форму фундаментальной регуляции или обоснования деятельной жизни согласно всеобщим идеям разума, которые должны быть сделаны очевидными через чистую эйдетическую интуицию.