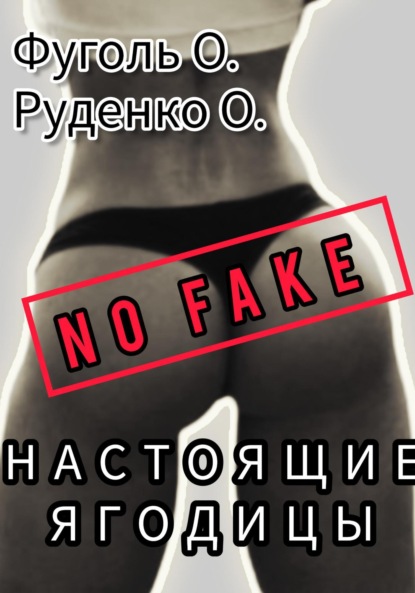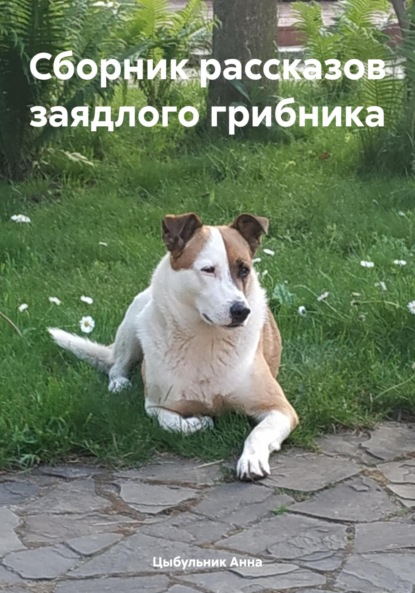Диссонанс Канта

- -
- 100%
- +

Часть I: Сигнал
Глава 1: Латентность
Моя рука уже касалась края криокапсулы, когда я осознал, что проснулся.
Это всегда так. Распределённый мозг – штука полезная, пока не начинаешь задумываться о том, что твоё «я» размазано по позвоночнику, как масло по слишком большому куску хлеба. Узлы вдоль спины обрабатывают информацию быстрее, чем кора успевает её присвоить. Тело действует, сознание догоняет. Феноменологи называют это «латентностью самости». Я называю это утренней рутиной.
Капсула открылась с влажным вздохом, выпуская облако конденсата. Мои лёгкие сделали первый настоящий вдох за – сколько? – четырнадцать месяцев субъективного небытия. Воздух корабля пах озоном и чем-то органическим, чуть сладковатым. Рециркуляция. Системы жизнеобеспечения добавляли в атмосферу микродозы феромонов, имитирующих присутствие других людей. Психологический костыль для социальных приматов, застрявших в металлической банке между звёздами.
Я сел. Вернее, моё тело село, а через полторы секунды я осознал, что сижу. Латентность сегодня была хуже обычного – криосон всегда сбивал синхронизацию между узлами.
– Добро пожаловать обратно, доктор Чен-Ривера, – произнёс голос из динамиков. Айзек. Корабельный ИИ говорил с интонациями, которые звучали почти тепло, если не знать, что за ними нет ничего, кроме оптимизированных алгоритмов социального взаимодействия. – Ваши витальные показатели в пределах нормы. Нейронная синхронизация восстановится в течение трёх-четырёх часов.
– Спасибо, Айзек.
Я поблагодарил программу. Рефлекс. Социальные приматы благодарят даже кофеварки.
Ноги коснулись пола – холодного, с текстурой, которую инженеры называли «антискользящей», а я бы назвал «неприятной». Гравитация была чуть ниже земной – ноль-восемь g, стандарт для дальних миссий. Достаточно, чтобы кости не разрушались. Недостаточно, чтобы чувствовать себя дома.
Я посмотрел на свои руки. Пальцы двигались – сжимались в кулак, разжимались. Я наблюдал за ними, как за чужими. Где-то в узлах вдоль позвоночника уже прошли сигналы, инициировавшие движение. Моя кора просто получала отчёт о проделанной работе.
Странное ощущение – быть зрителем собственных действий. Большинство людей никогда его не испытывают. Их сознание и тело синхронизированы с точностью до миллисекунд, и иллюзия контроля остаётся нетронутой. Моя иллюзия треснула давно, когда я добровольно согласился на процедуру распределения. Расширенная рабочая память, параллельная обработка, способность удерживать в фокусе больше переменных, чем любой baseline-человек. Цена – постоянное напоминание о том, что «я» – это конструкт, запаздывающий за реальностью.
Профессиональная деформация? Возможно. Но я бы соврал, если бы сказал, что выбрал эту модификацию случайно. Нейрофеноменолог, изучающий природу субъективного опыта, который каждое утро сталкивается с разрывом между действием и осознанием. Есть в этом что-то почти поэтичное. Или патологическое – зависит от того, кого спросить.
Душевая кабина была узкой, как гроб. Вода – синтетическая, рециклированная столько раз, что молекулы, вероятно, помнили прикосновение каждого члена экипажа. Я стоял под струями и смотрел, как капли стекают по коже. Моя кожа. Моё тело. Слова, которые мы используем, чтобы обозначить границы того, что считаем собой.
Границы произвольны. Я знал это лучше, чем кто-либо на этом корабле.
Где заканчиваюсь «я»? На поверхности эпидермиса? В синапсах коры? Или в узлах вдоль позвоночника, которые технически являются частью моей нервной системы, но расположены там, где обычно находятся только спинномозговые ганглии? Хельсинкский протокол требовал «непрерывности личности» – но что это значило для того, чья личность распределена по нескольким физическим носителям?
Я выключил воду. Тело уже вытиралось, когда я осознал решение выключить воду.
– Доктор Чен-Ривера, – снова Айзек, – капитан Волкова-Грау просит вас присоединиться к брифингу в командном модуле через сорок минут.
– Понял.
Сорок минут. Достаточно, чтобы привести в порядок то, что осталось от моего чувства реальности после криосна. Недостаточно, чтобы ответить на вопрос, который я задавал себе с момента пробуждения: почему латентность сегодня ощущалась иначе? Не просто хуже – иначе. Как будто что-то изменилось в самой структуре задержки.
Возможно, ничего. Возможно, криосон и рециклированный воздух играли с моим восприятием. А возможно – и эта мысль была неприятной – что-то на этом корабле или рядом с ним уже влияло на мои распределённые нейронные узлы.
Мы были близко к цели. Достаточно близко.
Коридор жилого сектора был освещён мягким светом, имитирующим земные сумерки. Психологи миссии настаивали на циркадных ритмах – как будто человеческий мозг мог забыть, что он в тысячах астрономических единиц от любого солнца. Мой мозг точно не забывал.
Я шёл, и мои шаги отставали от ощущения ходьбы. Левая нога, правая нога, левая нога – каждое движение сначала происходило, потом осознавалось. Я давно научился не думать об этом, позволять телу вести, а сознанию – наблюдать. Но сегодня наблюдение требовало усилий.
Дверь медотсека была открыта. Внутри – Рей Кастильо-Ибаньес, склонившийся над диагностической консолью. Он поднял голову, когда я появился в проёме.
– Маркус. Как самочувствие?
– Латентность, – ответил я. – Ты знаешь.
Рей кивнул. Его лицо – спокойное, внимательное – не выражало эмпатии, и я знал почему. Эмпатический импеданс. Хирургически сниженная способность к эмоциональному заражению. Его забота была не рефлексом, а решением. Некоторые считали это менее подлинным. Я считал это более честным.
– Твои узлы в норме, – сказал он, кивая на консоль. – Синхронизация восстанавливается штатно. Но я хочу провести полное сканирование, когда будет время.
– После брифинга?
– После брифинга.
Он помолчал. Его взгляд задержался на мне чуть дольше, чем требовала вежливость.
– Ты выглядишь… задумчивым.
– Я всегда задумчивый. Это профессиональная необходимость.
Рей не улыбнулся – он редко улыбался, хотя это не делало его холодным. Просто сосредоточенным. Забота без автоматизма.
– Мы почти на месте, – сказал он. – Шестнадцать часов до выхода на орбиту. Ты готов?
Готов. Странное слово. Я изучал сознание всю жизнь – картировал субъективный опыт, разрабатывал протоколы для описания квалиа, пытался найти объективные корреляты того, что по определению объективно недоступно. И вот теперь я летел к объекту, который – если верить данным первой миссии – демонстрировал интеллект без сознания. Или сознание без интеллекта. Или что-то третье, для чего у нас ещё не было слов.
– Я здесь, – сказал я вместо ответа. – Это уже что-то.
Командный модуль располагался в носовой части «Тезея-II». Название корабля – отсылка к древнему парадоксу. Если заменить все доски корабля одну за другой, останется ли он тем же кораблём? Первый «Тезей» был потерян двадцать лет назад. Весь экипаж вернулся. Все утверждали, что они – оригиналы. Генетические тесты подтвердили. Поведенческие тесты подтвердили. И всё же никто из них не помнил момент, когда принял решение эвакуироваться. Провал в памяти – у всех пятерых, синхронный.
Я думал об этом, поднимаясь по трапу к командному модулю. О досках, которые заменяют одну за другой. О том, что остаётся, когда замена завершена.
Саша Волкова-Грау стояла у главного экрана, когда я вошёл. Капитан «Тезея-II» – женщина пятидесяти двух лет с короткими седеющими волосами и взглядом, который, казалось, смотрел одновременно на тебя и сквозь тебя. Хирургически разделённые полушария. Искусственный мост, позволяющий переключаться между «объединённым» и «разделённым» режимами сознания. В разделённом режиме её левое и правое полушария функционировали почти независимо, каждое со своим мнением, своими приоритетами. Два сознания в одном теле – или одно сознание, способное раздваиваться по команде. Я так и не решил, какая интерпретация верна.
– Маркус, – она кивнула. – Как латентность?
– Терпимо. Хуже обычного, но в пределах.
– Мы все немного не в фазе. – Она коснулась виска – жест, который я видел раньше. Переключение режимов. – Криосон плюс близость к объекту. Айзек зафиксировал аномалии в нейронной активности всей команды.
– Какого рода аномалии?
– Небольшие колебания в синхронизации. Ничего критичного. – Она помолчала. – Пока.
Остальные члены экипажа уже были здесь. Тег Эгертон сидел у бокового терминала, его глаза бегали по экрану с выражением, которое я научился распознавать как «он видит что-то, чего не видим мы». Синестезия. Грамматические структуры в цвете. Для него текст на экране был не просто текстом – он был симфонией оттенков, и Тег слушал её с профессиональным вниманием.
Юки Танака-Ндиай стояла у технической консоли, проверяя показатели системы жизнеобеспечения. Единственный немодифицированный человек на борту. Baseline. Она отказывалась от нейромодификаций не из страха – из принципа. «Немодифицированное сознание имеет ценность, которую нельзя измерить», – сказала она однажды. Я не был уверен, что она права, но её присутствие в команде было важным: контрольный образец, эталон «обычного» человеческого опыта. Что бы это ни значило.
– Все собрались, – констатировала Саша. – Айзек, выведи последние данные.
Главный экран мигнул. Изображение было нечётким – расстояние всё ещё слишком большое для детальной съёмки – но достаточно ясным, чтобы увидеть контуры. Неправильная форма. Фрактальная поверхность. Что-то, что не должно существовать в Облаке Оорта.
Роршах.
Я смотрел на экран, и мой мозг делал то, что мозги делают лучше всего: искал паттерны. Там, где камера фиксировала случайные конфигурации, мои нейроны находили лица. Башни. Схемы, напоминающие электрические цепи. Знакомые формы в незнакомом пространстве.
Апофения. Склонность находить значимые паттерны в случайных данных. Эволюционный механизм, который помогал нашим предкам замечать хищников в кустах – даже когда никаких хищников не было. Лучше сто ложных тревог, чем одна пропущенная угроза.
Но я знал: это не в объекте. Это во мне.
– Красиво, – сказал Тег. Его голос был мечтательным, отстранённым. – Структура поверхности… она почти фонетическая. Как будто кто-то написал слово на языке, который существует только визуально.
– Это проекция, – возразил я. – Наш мозг интерпретирует случайные формы как язык.
– Все языки – проекция, – Тег повернулся ко мне. Его глаза – карие, с расширенными зрачками синестета – смотрели так, будто он видел цвет моих слов. – Мы находим паттерны, называем их значениями. Роршах не исключение. Он просто… честнее.
– Честнее?
– Он не притворяется, что паттерны – это что-то большее, чем паттерны.
Саша подняла руку – жест, прерывающий дискуссию.
– Давайте сосредоточимся на фактах. Айзек, статус объекта.
– Объект «Роршах» находится в восемнадцати миллионах километров от текущей позиции корабля, – голос ИИ звучал ровно, без эмоций, которые он так убедительно имитировал в личных разговорах. В официальном режиме Айзек не тратил ресурсы на очеловечивание. – Диаметр: приблизительно триста километров. Форма: нерегулярная, с высоким уровнем фрактальности поверхности. Температура поверхности: минус двести двенадцать градусов Цельсия, что соответствует равновесному состоянию для данного расстояния от Солнца. Однако зафиксированы локальные тепловые аномалии.
– Какого рода аномалии? – спросила Юки.
– Точечные источники тепла на глубине двух-трёх километров от поверхности. Температура в этих зонах достигает плюс пятнадцати градусов Цельсия. Источник энергии не идентифицирован.
– Не идентифицирован или не может быть идентифицирован? – уточнил я.
– Различие не имеет операционального значения на данном этапе, доктор Чен-Ривера. Для идентификации требуется более близкое исследование.
Операциональное значение. Айзек всегда мыслил в терминах функций и операций. Он не понимал, почему вопрос о природе источника может быть важен сам по себе, безотносительно практических последствий. Для него понимание было инструментом, не целью.
Иногда я завидовал этой ясности.
– Расскажи о сигналах, – попросила Саша.
Экран изменился. Теперь на нём были графики – волновые формы, спектрограммы, данные, которые выглядели почти как язык.
– С момента обнаружения в 2147 году объект «Роршах» отвечает на любые направленные радиосигналы, – продолжил Айзек. – Ответы демонстрируют следующие характеристики: грамматическая структура соответствует языку исходного сообщения. Семантическое содержание отсутствует или не поддаётся интерпретации. Время отклика: от трёх до семи секунд в зависимости от сложности входящего сообщения.
– Покажи пример, – сказал Тег.
На экране появился текст. Слева – сообщение, отправленное зондом «Аргус-17» двадцать четыре года назад. Справа – ответ.
Отправлено: «Это исследовательский зонд „Аргус-17". Мы представляем человечество Земли. Какова ваша природа? Каковы ваши намерения?»
Получено: «Это ответ на исследование. Мы представляем ответ. Природа характеризуется свойствами, которые определяют состояние. Намерения являются параметрами, которые доступны для параметров. Состояние доступно.»
Я читал эти строки много раз – в подготовительных материалах, в научных статьях, в бесконечных дискуссиях, которые предшествовали миссии. И каждый раз испытывал одно и то же ощущение: головокружение на краю чего-то огромного. Слова были правильными. Грамматика – безупречной. И при этом текст не значил ничего.
– Совершенный синтаксис, – прокомментировал Тег. Он смотрел на экран так, будто видел не буквы, а цветовую палитру. – И нулевая семантика. Он берёт структуру наших сообщений и возвращает её пустой. Как… – он искал слово, – …как зеркало, которое отражает форму, но не содержание.
– Или как система, которая обрабатывает символы по правилам, не понимая их значения, – добавил я.
Саша повернулась ко мне. Её глаза – серые, проницательные – задержались на моём лице.
– Китайская комната.
– Именно.
Аргумент Джона Сёрла. Мысленный эксперимент, которому больше двухсот лет, но который так и не получил окончательного опровержения. Представьте человека, запертого в комнате. У него есть книга правил: если видишь такой-то символ, напиши такой-то ответ. Он не знает китайского языка, но следует правилам настолько точно, что снаружи его ответы неотличимы от ответов носителя. Вопрос: понимает ли система китайский?
Сёрл говорил: нет. Понимание – это не манипуляция символами по правилам. Понимание требует чего-то большего. Интенциональности. Смысла. Того, что мы называем сознанием.
Роршах был китайской комнатой размером с небольшой астероид.
– Мы не знаем наверняка, – сказал Рей. Он говорил редко на брифингах, но когда говорил – все слушали. – Может быть, там есть понимание. Может быть, мы просто не распознаём его форму.
– А может быть, нет, – возразила Юки. Её голос был прямым, без научных обиняков. – Может быть, это просто очень сложный автомат. Как Айзек, только больше.
В комнате повисла пауза. Я почувствовал – или мне показалось, что почувствовал – лёгкое напряжение в воздухе. Сравнение с Айзеком было не вполне корректным, и все это понимали.
– Я не претендую на сознание, – произнёс ИИ. Его голос был нейтральным, информативным. – Я функционирую. Вопрос о моём внутреннем опыте не имеет операционального значения для моей функции.
– Но для нас имеет, – сказал я.
– Да. Для вас это имеет значение. Я наблюдаю это как факт вашего поведения, хотя не понимаю, почему.
Саша снова подняла руку.
– Мы не будем решать проблему сознания на брифинге. Давайте вернёмся к плану миссии.
План миссии был простым на бумаге и безнадёжно сложным в реальности. Выйти на орбиту вокруг Роршаха. Провести дистанционное исследование. Затем – проникновение. Малые группы, ограниченные по времени. Собрать данные, которые первая миссия не успела – или не смогла – собрать.
Первая миссия. «Тезей-I». Я думал о них всё время, пока Саша излагала детали протокола. Пятеро людей, которые вошли в Роршах и вышли из него. Все живы. Все здоровы. Все с синхронным провалом в памяти.
Официальная версия: травматическая амнезия. Стресс контакта с чужеродным разумом. Защитная реакция психики, стирающая невыносимые воспоминания.
Неофициальная версия, которую обсуждали в закрытых каналах: они не те же люди. Что-то произошло внутри. Что-то, о чём они не помнят, потому что не могут помнить. Потому что тех, кто помнил, больше нет.
Копии. Слово, которое никто не произносил вслух, но которое висело в воздухе каждого обсуждения. Если Роршах способен обрабатывать информацию с той точностью, которую демонстрируют его ответы, – способен ли он обработать человека? Разобрать на составные элементы и собрать заново? И если собранное существо неотличимо от оригинала – генетически, неврологически, поведенчески – является ли оно оригиналом?
Парадокс корабля Тезея. Только теперь речь шла не о досках.
– Маркус.
Я вздрогнул. Голос Саши.
– Да?
– Ты слушаешь?
– Я думаю о первой миссии.
Она кивнула. Без осуждения – она понимала.
– Мы все думаем. Но у нас есть преимущество: мы знаем, чего ожидать.
– Мы знаем, чего ожидали они. Это не одно и то же.
– Верно. – Она помолчала. – Твоя роль в миссии – картирование субъективного опыта. Если кто-то из нас начнёт… меняться, ты должен это зафиксировать. Установить критерии. Разработать протоколы.
– Критерии чего?
– Оригинальности.
Слово упало в тишину, как камень в воду.
– Ты хочешь, чтобы я определил, кто из нас – настоящий?
– Я хочу, чтобы ты определил, можно ли это определить вообще. И если можно – как.
Я посмотрел на неё. На Рея, который слушал с выражением профессионального интереса. На Тега, который всё ещё смотрел на экран с данными Роршаха. На Юки, единственную из нас, чей мозг не был изменён человеческими руками.
– Я не уверен, что это возможно, – сказал я наконец.
– Я тоже, – ответила Саша. – Но если кто-то может попытаться – это ты.
После брифинга я вернулся в свою каюту. Узкое пространство – койка, рабочий стол, личный терминал. Стены были покрыты мягким материалом, поглощающим звук; в невесомости это было бы необходимостью, но даже при ноль-восемь g создавало ощущение изоляции. Я был заключён в кокон тишины, наедине с собственными мыслями.
Или с тем, что я считал собственными мыслями.
Я сел на край койки и посмотрел на свои руки. Они лежали на коленях – неподвижные, расслабленные. Я не приказывал им это. Они просто оказались там, в этой позе, и моё сознание приняло это как факт.
Латентность. Задержка между действием и осознанием. Для большинства людей – миллисекунды. Для меня – секунды. Иногда – несколько секунд. Достаточно, чтобы заметить разрыв. Достаточно, чтобы задаться вопросом: кто на самом деле принимает решения? Моё сознание – или что-то, что действует быстрее него?
Нейробиология давно знала ответ. Эксперименты Бенджамина Либета, потом – более точные исследования с фМРТ. Мозг принимает решение за несколько сотен миллисекунд до того, как человек осознаёт это решение. Свободная воля – ретроспективная иллюзия. Мы не выбираем – мы одобряем выбор, уже сделанный без нашего участия.
Моя модификация просто делала этот факт очевидным. Распределённые узлы вдоль позвоночника работали быстрее, чем кора. Они обрабатывали информацию, инициировали действия, а потом – как вежливый секретарь – отправляли отчёт начальнику. «Мы сделали вот это, босс. Надеюсь, вы не против.»
Я не был против. Обычно. Узлы были частью меня, в конце концов. Частью моей нервной системы, подчинённой той же генетике, тем же базовым целям. Если они действовали – значит, я действовал. Просто не всегда успевал это заметить.
Но иногда – в такие моменты, как сейчас – я задавался вопросом. Где граница? Если часть меня действует без осознания – это всё ещё «я»? А если нет – то кто?
Терминал на столе мигнул. Входящее сообщение.
Я потянулся к клавиатуре – рука уже двигалась, когда я осознал намерение. Открыл папку. Личные материалы, которые я взял с собой на миссию. Видеозаписи с Земли. Статьи. Заметки.
И ещё кое-что.
Интервью с членами экипажа «Тезея-I». После возвращения. После медицинских тестов. После всех попыток понять, что произошло.
Я открыл первую запись. Лицо женщины – Елена Варга, бортинженер первой миссии. Сейчас ей было за шестьдесят; на записи – немногим за сорок. Усталые глаза. Спокойный голос.
– Я не помню момент, когда решила вернуться на корабль, – говорила она. – Я была внутри. А потом я была в шлюзе. Между этими точками – ничего. Как будто кто-то вырезал фрагмент плёнки.
Голос за кадром – интервьюер: – Вы чувствовали что-то необычное? До провала в памяти?
– Я чувствовала… присутствие. Не враждебное. Скорее – любопытное. Как будто что-то смотрело на меня. Изучало. – Она помолчала. – Нет. Не «смотрело». Это неправильное слово. Индексировало. Как будто я была файлом, который нужно каталогизировать.
Индексировало. Слово застряло у меня в голове.
– После возвращения вы прошли все тесты, – продолжал интервьюер. – Генетика совпадает. Нейропаттерны совпадают. Воспоминания – за исключением провала – совпадают. Вы когда-нибудь сомневались, что вы – это вы?
Долгая пауза. Лицо Елены на экране – неподвижное, непроницаемое.
– Каждый день, – сказала она наконец. – Каждый день я просыпаюсь и задаю себе этот вопрос. И каждый день не могу на него ответить.
Я выключил запись.
Роршах. Чернильное пятно в космосе. Объект, который отвечает на сообщения, не понимая их. Объект, который – возможно – копирует людей. Или что-то с ними делает.
Я думал о китайской комнате. О человеке, который манипулирует символами по правилам, не понимая значения. Система проходит тест на понимание, но не понимает.
А теперь представьте, что система – это не комната. Это трёхсоткилометровый объект в Облаке Оорта. И «символы», которыми он манипулирует, – это не китайские иероглифы. Это люди.
Он берёт нас. Изучает структуру – генетику, нейронные связи, паттерны поведения. Применяет правила. И создаёт ответ. Копию. Идеальную копию, неотличимую от оригинала по любым измеримым параметрам.
Но понимает ли он, что создаёт? Знает ли, что такое сознание? Или он просто следует правилам, как человек в китайской комнате, – без малейшего представления о том, что символы, которыми он оперирует, означают?
И если не понимает – имеет ли значение результат?
Копия, которая верит, что она оригинал. Которая чувствует себя оригиналом. Которая не может быть отличена от оригинала никакими тестами. Является ли она оригиналом?
Я не знал ответа. Я подозревал, что ответа не существует.
Стук в дверь. Я открыл.
Юки стояла в коридоре. Её лицо – открытое, практичное – выражало что-то среднее между беспокойством и любопытством.
– Не помешаю?
– Нет. Заходи.
Она вошла, огляделась. Маленькие каюты не давали простора для индивидуальности, но она всё равно заметила мой рабочий стол – стопки распечаток, голографические проекции мозговых сканов.
– Ты готовишься.
– Пытаюсь.
– К чему именно?
Хороший вопрос. Я указал на единственный стул. Она села; я остался на краю койки.
– К тому, что мы найдём там. И к тому, что это сделает с нами.
Юки кивнула. Она была единственной на корабле, кто не имел нейромодификаций, и это делало её… особенной. Не лучше, не хуже – просто другой. Её мозг работал так, как мозги работали тысячелетиями. Без распределённых узлов, без хирургически разделённых полушарий, без синестезии и эмпатического импеданса.
– Почему ты отказалась от модификаций? – спросил я. Вопрос был личным, возможно – слишком личным. Но нас разделяло восемнадцать миллионов километров пустоты от ближайшего другого человека, и формальности казались… неуместными.
– Потому что не знаю, что потеряю, – ответила она. – Все говорят, что модификации улучшают. Расширяют память, ускоряют обработку, добавляют новые способности. Но никто не знает, что они отнимают. Что исчезает, когда ты меняешь структуру сознания.
– Может быть, ничего.
– Может быть. – Она посмотрела на меня прямо, без увиливания. – А может быть, всё. Может быть, то, что делает нас нами, – это именно та часть, которую нельзя измерить и нельзя сохранить при модификации.
– Ты говоришь о душе?