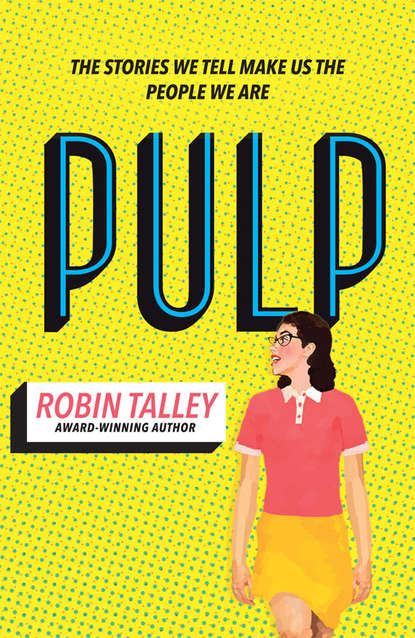Диссонанс Канта

- -
- 100%
- +
– Я говорю о том, что не имеет названия. О субъективном опыте. О том, каково это – быть мной. – Она помолчала. – Ты ведь изучаешь именно это?
– Пытаюсь.
– И что ты выяснил?
Я усмехнулся. Без радости – с чем-то вроде горького признания.
– Что это, возможно, невозможно изучить. Что субъективный опыт по определению недоступен объективному исследованию. Что мы можем измерить корреляты сознания, но не само сознание.
– Тогда зачем ты здесь? На этом корабле, в этой миссии?
– Потому что Роршах – это тест. Если он создаёт копии – идеальные копии, неотличимые от оригиналов, – то либо он копирует и сознание тоже, либо сознание не связано с тем, что он копирует. В первом случае мы узнаем, что сознание можно воспроизвести. Во втором – что оно иллюзия.
– А если ни то, ни другое?
– Тогда, – я вздохнул, – тогда мы узнаем, что вопрос поставлен неправильно. Что мы искали не то. Что вся философия сознания последних трёхсот лет шла в тупик.
Юки смотрела на меня. Её глаза – тёмные, внимательные – не выражали осуждения. Только интерес. И, может быть, немного сочувствия.
– Ты веришь, что у тебя есть сознание? – спросила она.
– Я переживаю что-то, что интерпретирую как сознание. Но я не могу доказать это никому – включая себя.
– А я? У меня есть сознание?
– Ты ведёшь себя так, будто есть. Ты утверждаешь, что есть. Но единственное сознание, в котором я могу быть уверен, – моё собственное. И даже в нём я не уверен полностью.
Она улыбнулась. Странная улыбка – тёплая и печальная одновременно.
– Знаешь, что меня пугает в Роршахе? Не то, что он может сделать со мной. А то, что он может сделать с этим вопросом. Что, если он докажет, что сознание – не нужно? Что интеллект может существовать без опыта, понимание – без переживания? Что мы – аномалия, баг в программе, который эволюция где-то там, – она махнула рукой в сторону звёзд, – давно исправила?
Я не ответил. Не потому, что не знал, что сказать. А потому, что боялся того же самого.
После ухода Юки я долго сидел в темноте.
Корабль гудел вокруг меня – тихий, почти неслышный звук работающих систем. Жизнеобеспечение. Двигатели. Вычислительные мощности Айзека, который никогда не спал, потому что не нуждался во сне. Потому что не нуждался ни в чём, кроме электричества и данных.
Я думал о сознании. О том, что оно такое, откуда берётся, зачем существует. Вопросы, которым я посвятил жизнь, – и на которые так и не нашёл ответов.
Эволюция слепа. Она не стремится к цели, не следует плану. Она просто отбирает то, что работает. Если сознание существует – значит, когда-то оно давало преимущество. Способность к рефлексии, к планированию, к осознанию себя как отдельной сущности во времени.
Но что, если это преимущество было временным? Что, если сознание – побочный эффект развития интеллекта, который на определённом этапе становится… избыточным? Вычислительно затратным? Эволюционным тупиком?
Роршах демонстрировал интеллект. Он отвечал на сообщения, адаптировался к контакту, – если верить отчётам первой миссии – реагировал на присутствие людей с чем-то, похожим на целенаправленность. Но ничто в его поведении не указывало на сознание. На внутренний опыт. На то, что философы называют «каково это быть».
Каково это – быть Роршахом? Возможно, никак. Возможно, внутри нет никакого «каково». Только обработка информации. Только реакции на стимулы. Только функция – без феномена.
И если это так – если интеллект не требует сознания – то зачем мы его имеем?
Я не заметил, как заснул. Или моё тело заснуло раньше, чем сознание успело это зафиксировать. Латентность работала и здесь – я погружался в сон не плавно, а рывками, пропуская переходные состояния.
Мне снился Роршах.
Он был огромным – больше, чем на экранах. Больше, чем любой объект, который я видел в жизни. Его поверхность двигалась, перетекала, образуя паттерны. Лица. Города. Схемы, которые выглядели почти знакомыми, почти понятными – но ускользали, как только я пытался на них сосредоточиться.
Я стоял на поверхности. Без скафандра, без защиты – и почему-то это не казалось странным. Под моими ногами была не твёрдость и не мягкость, а что-то третье. Что-то, для чего у меня не было слов.
И Роршах смотрел на меня.
Не глазами – у него не было глаз. Но я чувствовал его внимание. Давление чего-то огромного, сосредоточенного на мне. Он изучал меня. Индексировал. Разбирал на составные элементы, чтобы понять структуру.
Или не понять. Просто зафиксировать.
Я хотел спросить: «Ты сознателен?» Но слова не выходили. Вместо них – только молчание. И ощущение, что вопрос уже задан. И уже отвечен. И что ответ – не тот, который я хотел услышать.
Я проснулся резко, с ощущением падения. Тело уже сидело на койке, когда сознание догнало его.
Латентность была хуже. Заметно хуже. Разрыв между действием и осознанием – не полторы секунды, как утром. Три. Может быть, четыре.
Я посмотрел на часы на стене. Прошло шесть часов. До выхода на орбиту – десять.
Мы приближались.
Командный модуль был пуст, когда я вошёл. Только Саша – она стояла у обзорного окна, глядя в пространство. Не на экраны, не на данные – просто в темноту, усыпанную звёздами.
– Не спится? – спросила она, не поворачиваясь.
– Сны, – ответил я. – И латентность. Она усилилась.
Саша повернулась. Её лицо было спокойным, но я знал её достаточно, чтобы заметить напряжение в уголках глаз. Усталость, которую она скрывала.
– У меня тоже. – Она коснулась виска – переключение режимов. – В разделённом режиме полушария синхронизируются медленнее. Обычно – миллисекунды. Сейчас – почти секунда.
– Это из-за Роршаха?
– Не знаю. Может быть, просто криосон. Может быть, стресс. – Она помолчала. – Айзек не фиксирует внешнего воздействия. Никаких полей, никакого излучения. Но что-то есть.
– Что-то?
– Ощущение. – Она посмотрела на меня. – Ты же понимаешь, о чём я. Ощущение, что за тобой наблюдают. Изучают.
Индексируют. Слово снова всплыло в памяти.
– Понимаю.
Мы стояли рядом, глядя в окно. Роршах был ещё невидим невооружённым глазом – слишком далеко, слишком тёмный на фоне темноты. Но я знал, что он там. Чувствовал его присутствие – или думал, что чувствовал. Разница была не так очевидна, как мне хотелось бы.
– Я прочитал интервью с первой миссией, – сказал я.
– И?
– Они все говорили одно и то же. Ощущение присутствия. Индексации. А потом – провал. Пустота.
Саша кивнула. Медленно, задумчиво.
– Я знала одного из них. Марко Фернандес, бортврач. Мы учились вместе. После возвращения… он был тем же человеком. Те же привычки, те же шутки, те же воспоминания – за исключением провала. И всё же…
– Что-то изменилось?
– Он перестал задавать вопросы. Раньше – всегда спрашивал, всегда сомневался, всегда хотел понять глубже. После возвращения – принимал вещи как есть. Как будто… – она искала слова, – …как будто его любопытство было удалено. Вместе с воспоминаниями.
– Или скопировано без него.
– Да. Или скопировано без него.
Мы молчали. За окном – звёзды. Далёкие. Равнодушные. Миллиарды термоядерных реакций, которые ничего не знали о нас и никогда не узнают.
– Ты готов? – спросила Саша наконец.
– Нет, – честно ответил я. – Но разве кто-то готов?
Она улыбнулась. Коротко, почти незаметно.
– Тогда давай хотя бы притворимся.
Восемь часов до выхода на орбиту. Потом шесть. Потом четыре.
Я провёл это время в своей каюте, работая над протоколами. Как фиксировать изменения в субъективном опыте? Как отличить оригинал от копии, если копия – идеальна?
У меня не было ответов. Только вопросы – всё более сложные, всё более тревожные.
Тест Тьюринга – классический критерий интеллекта. Если машина ведёт себя неотличимо от человека, мы должны признать её интеллектуальной. Но что с сознанием? Если копия ведёт себя неотличимо от оригинала, утверждает тот же внутренний опыт, проходит все тесты – какой критерий остаётся?
Никакой. В этом была проблема.
Сознание – принципиально приватно. Мой внутренний опыт недоступен никому, кроме меня. Я могу описать его, но описание – это не опыт. Я могу создать корреляты – измерить нейронную активность, зафиксировать поведенческие признаки – но корреляты – это не сознание.
Я знаю, что я сознателен. Я не могу доказать это вам. Я не могу даже доказать это себе – только принять как данность.
А если копия принимает свою сознательность как данность? Если она верит, что она – оригинал, с той же убеждённостью, что и я?
Что тогда?
Два часа. Один.
Экипаж собрался в командном модуле. Все – кроме Айзека, который не имел тела и присутствовал только голосом. Мы смотрели на экраны. На данные. На изображение, которое становилось всё чётче по мере приближения.
Роршах.
Теперь я видел его – не как размытое пятно, а как объект. Неправильную форму. Фрактальную поверхность. Структуры, которые выглядели почти органическими, почти архитектурными, почти… разумными.
Мой мозг снова находил паттерны. Лица, города, схемы. Я знал, что это проекция – апофения, эволюционный механизм, работающий на полную мощность. Но знание не помогало. Я видел то, что видел.
– Красиво, – сказала Юки. Её голос был тихим, почти благоговейным.
– Пугающе, – поправил Рей.
– Одно не исключает другое, – заметил Тег.
Саша молчала. Её взгляд был прикован к экрану, и я видел, как её губы едва заметно шевелятся – она разговаривала сама с собой. В разделённом режиме. Два полушария, два мнения, один мозг.
Я смотрел на Роршах.
И мне казалось – только казалось, конечно, – что он смотрит на меня.
Корабль выходил на орбиту. Двигатели гудели на пределе, замедляя нас, захватывая гравитацией объекта. Айзек докладывал параметры – сухие цифры, лишённые эмоционального заряда. Скорость. Угол. Расстояние.
Я не слушал.
Я смотрел в обзорное окно – настоящее окно, не экран. Бронестекло толщиной в двадцать сантиметров, способное выдержать попадание микрометеорита. За ним – темнота. И в темноте – Роршах.
Он заполнял поле зрения. Огромный. Неправильный. Чуждый.
И я видел паттерны.
Лицо. Человеческое лицо – глаза, нос, рот. Выражение, которое можно было бы назвать любопытством. Оно смотрело на меня с поверхности объекта, из случайного сочетания теней и выступов.
Я знал, что это иллюзия. Мой мозг находил знакомое в незнакомом, создавал смысл там, где смысла не было. Апофения. Проекция. Машинерия восприятия, работающая в холостом режиме.
Но знание не меняло того, что я видел.
Лицо смотрело на меня. Изучало. Индексировало.
И я понял – с той пугающей ясностью, которая приходит в моменты между действием и осознанием – что это не в объекте.
Это во мне.
Паттерны, которые я находил в Роршахе, были отражением моего сознания. Мой мозг проецировал структуры на хаос, создавал значения из бессмыслицы. Я видел не Роршах – я видел себя. Свои страхи, свои ожидания, свои вопросы.
Роршах был зеркалом. Чернильным пятном, в котором каждый находил своё.
И я не знал, что это значило. Был ли он зеркалом случайно – или по замыслу? Отражал ли он только нас – или что-то ещё, что-то, чего мы не могли увидеть, потому что не имели для этого органов восприятия?
Я не знал.
Но я собирался выяснить.
Корабль стабилизировался на орбите. Роршах висел за окном – молчаливый, загадочный, терпеливый.
Терпеливый. Ещё одна проекция. У него не было терпения, потому что не было времени в человеческом понимании. Он просто был – здесь, сейчас, всегда. Без ожиданий, без намерений, без внутреннего опыта.
Или с чем-то, что мы не могли распознать как внутренний опыт.
Я отвернулся от окна. Экипаж всё ещё стоял у экранов, обсуждая данные. Тег что-то объяснял Рею, показывая на спектрограммы. Юки проверяла системы. Саша отдавала команды Айзеку.
Обычная работа. Обычные люди – насколько это слово применимо к нам, модифицированным, изменённым, улучшенным.
Я смотрел на них и думал о сознании. О том, что каждый из них переживал что-то – внутренний опыт, который был доступен только им самим. Тег видел цвета в грамматике. Саша переключалась между режимами сознания. Рей осознанно выбирал заботу. Юки цеплялась за немодифицированный мозг как за последний бастион «естественного» человеческого опыта.
И Айзек – голос без тела, интеллект без сознания. Или так он утверждал. Или так мы верили.
Каждый из них был загадкой. Китайской комнатой, из которой выходили ответы, неотличимые от ответов сознательного существа. Я не мог проникнуть внутрь – только наблюдать снаружи.
Как с Роршахом.
Как с самим собой.
Латентность снова дала о себе знать. Я обнаружил, что сижу в кресле у терминала, хотя не помнил, как сел. Мои пальцы уже набирали что-то на клавиатуре – заметки, наблюдения. Я прочитал написанное и узнал свои мысли. Но момент написания ускользнул, как песок сквозь пальцы.
Это было… неприятно. Обычно латентность не мешала. Я привык быть зрителем собственных действий, догоняющим тело на полшага. Но сейчас – так близко к Роршаху, с усилившейся задержкой – я чувствовал себя пассажиром в собственном разуме.
Кто управлял? Узлы вдоль позвоночника? Или что-то ещё?
Я не знал. И это незнание было самым пугающим.
Саша подошла ко мне. Я заметил её присутствие раньше, чем осознал, что заметил – странная петля обратной связи в распределённом сознании.
– Всё в порядке?
– Латентность, – ответил я. – Хуже, чем раньше.
Она кивнула. Её лицо – профессионально спокойное, капитанское – скрывало что-то. Тревогу? Понимание?
– Мы все это чувствуем, – сказала она. – Что-то воздействует на нас. Не физически – Айзек бы зафиксировал. Иначе.
– Как?
– Не знаю. – Она посмотрела в сторону окна, где за бронестеклом висел Роршах. – Может быть, просто близость. Может быть, наш мозг реагирует на присутствие чего-то… чуждого. Пытается обработать информацию, которую не может обработать.
– Когнитивный диссонанс.
– Что-то вроде.
Мы молчали. В тишине командного модуля я слышал только гудение систем и далёкий шорох рециркуляции воздуха.
– Завтра начнём подготовку к проникновению, – сказала Саша наконец. – Сегодня – отдыхаем. Насколько это возможно.
– Понял.
Она повернулась, чтобы уйти, но остановилась.
– Маркус.
– Да?
– То, что ты делаешь – картирование субъективного опыта, попытки найти критерии оригинальности – это важно. Может быть, самое важное в этой миссии.
– Почему?
– Потому что всё остальное – данные, образцы, анализ – это вторично. Главный вопрос здесь – не что такое Роршах. Главный вопрос – что такое мы. И как нам это сохранить.
Она ушла. Я остался – наедине с терминалом, с заметками, с Роршахом за окном.
И с вопросом, на который не было ответа.
Ночь на корабле – условность. Искусственные сумерки, приглушённый свет, тишина в коридорах. Имитация земного цикла для организмов, которые уже давно не были полностью земными.
Я лежал на койке и смотрел в потолок. Серая поверхность, идеально гладкая, ничего не отражающая. Я искал паттерны – и не находил.
Это было почти облегчением.
Роршах не давал мне покоя. Не как угроза – как вопрос. Огромный, неразрешимый вопрос, который висел за стенами корабля и ждал ответа.
Что такое сознание?
Я задавал этот вопрос всю жизнь. Картировал субъективный опыт, разрабатывал протоколы, писал статьи. И ни разу – ни разу – не приблизился к ответу.
Может быть, ответа не существовало. Может быть, вопрос был поставлен неправильно. Может быть, сознание – это не вещь, которую можно определить, а процесс, который можно только переживать.
Или иллюзия. Побочный эффект обработки информации. Эпифеномен – явление, которое существует, но ни на что не влияет.
Роршах демонстрировал интеллект без сознания. Или мы так интерпретировали его поведение. Может быть, у него было сознание – просто настолько чуждое, что мы не могли его распознать. Может быть, мы смотрели на него и видели отсутствие, потому что искали присутствие не того.
Я закрыл глаза.
Латентность. Задержка между стимулом и осознанием. Для меня – несколько секунд. Для baseline-человека – миллисекунды. Для Роршаха – сколько? Вечность? Или ноль?
Что, если сознание – это и есть латентность? Задержка, в которой возникает опыт? Пауза между входом и выходом, где появляется «я»?
Тогда Роршах – система без паузы. Обработка без задержки. Интеллект без интервала, в котором мог бы поселиться внутренний наблюдатель.
Красивая гипотеза. Непроверяемая. Как и всё, что касалось сознания.
Я открыл глаза.
Потолок был всё так же сер. Всё так же пуст.
И я всё так же не знал ответа.
Сон пришёл – не помню когда. Латентность работала и здесь: я проваливался в темноту, пропуская переходные состояния.
Мне снова снился Роршах.
Но на этот раз я был не снаружи – а внутри. Тоннели, которые выглядели почти органическими. Стены, которые пульсировали с ритмом, напоминающим дыхание. Или сердцебиение. Или что-то третье.
Я шёл – или мне казалось, что шёл. В снах разница несущественна.
И впереди – свет. Не тёплый, не холодный. Просто свет. Белый. Чистый. Невыносимо яркий.
Я шёл к нему.
И просыпался.
Утро.
Точнее – искусственное утро. Свет в каюте стал ярче, имитируя рассвет. Мои глаза открылись. Тело уже сидело на койке, когда я это осознал.
Латентность была хуже. Значительно хуже.
Разрыв между действием и осознанием – не три секунды, как вчера. Пять. Может быть, шесть. Я наблюдал за собой, как за фильмом с задержкой звука. Картинка опережала осознание.
Что-то менялось.
Во мне или вокруг меня – я не знал. Но менялось.
Я вышел в коридор. Мои ноги шли – я догонял их сознанием.
В командном модуле уже были остальные. Тег у терминала. Юки у технической консоли. Рей у медицинского поста. Саша – в центре, координирующая.
– Маркус, – она заметила меня. – Как латентность?
– Хуже.
Она кивнула. Без удивления – она ожидала.
– У всех хуже. Тег – слышишь цвета с задержкой. Юки – реакции замедлились. У меня полушария синхронизируются с лагом в полторы секунды.
– Это Роршах?
– Айзек не фиксирует прямого воздействия. Но корреляция очевидна. – Она помолчала. – Мы приближаемся к нему – и что-то в нас замедляется. Может быть, это защитная реакция. Может быть – что-то другое.
– Что именно?
– Не знаю. – Она посмотрела на меня. Взгляд капитана – оценивающий, профессиональный. – Твоя задача – выяснить.
Я кивнул.
Моя задача. Картировать субъективный опыт. Найти критерии оригинальности. Понять, что происходит с нами.
Понять, что такое мы.
Я подошёл к обзорному окну.
Роршах висел там – огромный, неправильный, терпеливый. Его поверхность двигалась – или мне казалось, что двигалась. Фрактальные структуры перетекали друг в друга, создавая паттерны.
Лица. Города. Схемы.
Мой мозг находил значения в хаосе. Создавал смысл из бессмыслицы. Проецировал себя на поверхность чужеродного объекта.
Это не в нём, напомнил я себе. Это во мне.
Но напоминание не помогало. Я видел то, что видел. И Роршах – или мой образ Роршаха – смотрел на меня в ответ.
Изучал.
Индексировал.
Ждал.
Может быть, сознание – не ответ.
Может быть, оно – вопрос.
И вопрос стоит задавать, даже если ответа нет.

Глава
2:
Китайская
комната
Лаборатория Тега располагалась в научном комплексе – узком отсеке, заставленном оборудованием, которое большинство людей не смогли бы опознать. Спектрографы. Анализаторы паттернов. Голографические проекторы, способные визуализировать данные в трёх измерениях. И в центре всего этого – Тег Эгертон, человек, который видел грамматику в цвете.
Я вошёл, когда он уже работал. Его пальцы танцевали над консолью, а глаза – расширенные, сосредоточенные – следили за потоком данных на экране. Для меня это были строки текста: сообщения Роршаха, принятые за последние двадцать четыре часа. Для него – симфония оттенков.
– Маркус, – он не повернулся, но знал, что я здесь. – Ты должен это увидеть.
Я подошёл ближе. Экран показывал то, что выглядело как обычный текстовый анализ: входящие сообщения слева, ответы Роршаха справа. Между ними – диаграммы связей, которые Тег называл «семантическими картами».
– Что именно?
– Всё. – Он наконец повернулся. Его лицо было странным – смесь восторга и тревоги. – Я понял, как он это делает. Как конструирует ответы.
– И?
– Это… – он искал слова, и я видел, как его взгляд на мгновение расфокусировался, будто он смотрел сквозь меня на что-то невидимое. – Это красиво. И ужасно. Одновременно.
Остальной экипаж собрался через двадцать минут. Саша пришла первой – капитан всегда приходила первой. За ней – Рей, с медицинским планшетом в руках, на котором отображались наши биометрические данные. Юки появилась последней, прямо из инженерного отсека, с пятнами смазки на рукавах комбинезона.
Айзек присутствовал везде и нигде – его голос мог звучать из любого динамика на корабле, но тела у него не было. Иногда я задавался вопросом, каково это – существовать как чистая функция, без физической оболочки. Потом вспоминал, что он, вероятно, не знал «каково» в принципе.
– Итак, – сказала Саша, когда все расположились вокруг главного экрана лаборатории. – Тег, ты сказал, что у тебя прорыв.
– Не уверен, что «прорыв» – правильное слово. – Тег коснулся консоли, и экран изменился. Теперь на нём была визуализация – сложная трёхмерная структура, напоминающая кристаллическую решётку. – Скорее… понимание. Хотя «понимание» тоже не совсем точно, учитывая контекст.
– Тег, – мягко перебил Рей. – Давай по существу.
– Да. Конечно. – Он сделал глубокий вдох. Я заметил, как его пальцы слегка дрожали – не от страха, а от возбуждения. – Смотрите. Вот сообщение, которое мы отправили вчера.
На экране появился текст:
Отправлено: «Мы исследователи с планеты Земля. Мы пришли с мирными намерениями. Можете ли вы описать свою природу и происхождение?»
– Стандартный протокол первого контакта, – прокомментировала Саша. – Мы отправляем варианты этого сообщения с момента обнаружения.
– Именно. И вот ответ.
Получено: «Мы являемся ответом на исследование. Мы характеризуемся природой, которая описывает происхождение. Мирные намерения определяются параметрами, которые доступны для планеты. Описание возможно.»
Юки нахмурилась.
– Это… бессмыслица. Грамматически правильная бессмыслица.
– Именно! – Тег щёлкнул пальцами. – Именно это я и хотел показать. Смотрите внимательнее.
Он вывел на экран новую диаграмму. Теперь исходное сообщение и ответ были разложены на составные элементы – слова, фразы, грамматические конструкции. Между ними тянулись линии связей.
– Видите? Каждый элемент ответа – это трансформация элемента из нашего сообщения. «Мы исследователи» превращается в «Мы являемся ответом на исследование». «С планеты Земля» превращается в «для планеты». «Можете ли вы описать» превращается в «Описание возможно».
Я смотрел на диаграмму и начинал понимать.
– Он не генерирует новый контент.
– Нет. – Тег покачал головой. – Он берёт нашу структуру и возвращает её обратно. Трансформирует по определённым правилам – правилам, которые сохраняют грамматику, но уничтожают семантику. Форма остаётся. Содержание исчезает.
– Как эхо, – сказал Рей. – Эхо, которое меняет слова, но сохраняет ритм.
– Точно. – Тег кивнул. – Только это не просто эхо. Это… – он снова замолчал, подбирая слова, – …это алгоритм. Очень сложный алгоритм. Я попытался формализовать правила трансформации – вот, смотрите.
На экране появился список. Математические формулы, логические операторы, стрелки перехода.
– Правило первое: заменить субъект действия его функциональным эквивалентом. «Исследователь» – тот, кто исследует – становится «ответом на исследование» – тем, что исследуется. Правило второе: инвертировать направление интенции. «Мы пришли» – активное действие – становится «мы характеризуемся» – пассивным состоянием. Правило третье: заменить конкретные референты абстрактными категориями. «Мирные намерения» становятся «параметрами».
Саша слушала молча. Я видел, как её рука несколько раз поднималась к виску – жест переключения режимов – но она пока оставалась в объединённом состоянии.