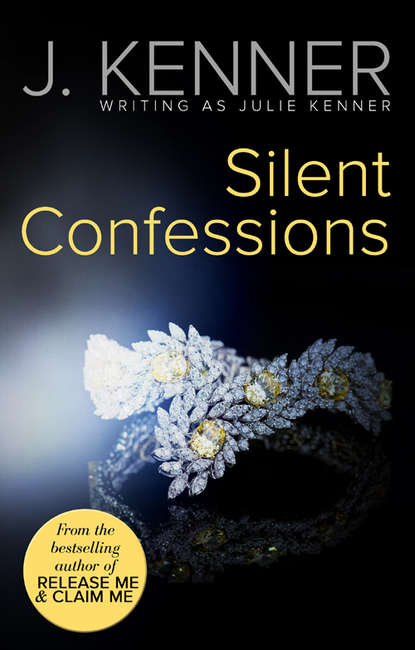- -
- 100%
- +
Виктор перечитал сообщение трижды.
Паттерн.
Редукционизм – порядок. Холизм – хаос.
Кто-то ещё видел то же, что видел он.
Он ответил коротко:
«Буду на связи».
И вышел из больницы в серое мартовское утро.
Город просыпался вокруг него – обычный, знакомый, полный людей, которые не подозревали, что мир, возможно, изменился.
Виктор не был одним из этих людей.
Он знал.
И собирался выяснить – что именно.

Глава 3: Паттерн
22 марта 2147 года, 02:17 Берлин
Три экрана светились в темноте, как алтари забытого божества.
Ноа Штерн сидел перед ними, скрестив ноги по-турецки на офисном кресле – привычка, от которой он так и не избавился с армейских времён, когда приходилось часами работать в тесных фургонах, где не было места для нормальной позы. Свет мониторов окрашивал его лицо в синеватые тона, делая похожим на утопленника. Или на призрака. Или на того, кем он, возможно, был на самом деле – человека, который слишком долго смотрел в данные и теперь видел в них то, чего там не было.
Или было.
В этом-то и заключалась проблема.
На левом экране – статистика из ЦЕРНа. Сводные данные по экспериментам за последний месяц, полученные через цепочку знакомых: бывший однокурсник работал с кем-то, кто знал кого-то в группе квантовой гравитации. Обычный академический телеграф, по которому слухи и препринты распространялись быстрее официальных публикаций.
На центральном – биологические данные из Торонто. Эти достать было сложнее: системная биология считалась маргинальной дисциплиной, её адептов в приличном обществе упоминали с лёгким снисхождением. Но у Ноа были свои каналы. Он двадцать лет изучал, как научные сообщества производят «факты», и за это время обзавёлся информаторами во всех лагерях.
На правом – его собственные заметки. Графики, диаграммы, стрелки, соединяющие разрозненные точки в нечто, напоминающее паттерн.
Если это был паттерн.
Если он не сходил с ума.
Ноа потянулся к чашке на столе – холодный чай, забытый несколько часов назад – и сделал глоток. Жидкость отдавала горечью перестоявшей заварки. Он поморщился, но допил. В три часа ночи выбирать не приходилось.
За окном Берлин спал. Огни Фридрихсхайна мерцали вдалеке – там, где когда-то была стена, а теперь тянулась бесконечная полоса клубов и баров, куда Ноа не заходил уже много лет. Он предпочитал другие стены. Те, что строились из данных и разрушались от одного правильно заданного вопроса.
Сегодня у него был такой вопрос.
Началось неделю назад.
Электронное письмо от коллеги из Мюнхена – Клауса Вебера, специалиста по социологии знания. Они пересекались на конференциях, обменивались статьями, изредка спорили в комментариях к публикациям. Обычные академические отношения, лишённые как глубины, так и вражды.
«Ноа, – писал Клаус, – происходит что-то странное. Мои коллеги-физики жалуются, что их эксперименты дают слишком чистые данные. Слишком чистые. Они говорят это так, будто это плохо. Я не понимаю. Ты всегда говорил, что данные конструируются. Может, объяснишь?»
Ноа не ответил сразу. Сначала – посмеялся. «Слишком чистые данные» – это было похоже на жалобу, что вода слишком мокрая. Физики и их перфекционизм. Вечное недовольство всем, включая собственные успехи.
Но потом – он начал копать.
Не из научного интереса. Из чего-то другого, чему он не сразу нашёл название. Что-то зудело на периферии сознания, как забытая мелодия, как déjà vu, как предчувствие дождя перед тем, как первые капли коснутся земли.
Он запросил данные.
И данные пришли.
Ноа всегда считал себя деконструктивистом.
Не в претенциозном литературном смысле – он терпеть не мог французских философов с их бесконечными неологизмами и нечитаемыми предложениями. В практическом. Он разбирал вещи на части. Показывал, из чего они сделаны. Демонстрировал швы там, где другие видели монолит.
Научные факты? Социальные конструкты, результат переговоров между учёными, журналами и грантодателями.
Объективная истина? Консенсус, временный и хрупкий, который завтра сменится другим консенсусом.
Реальность? Ну, реальность – это то, что осталось после того, как ты убрал все интерпретации. То есть, строго говоря, ничего.
Эта позиция делала его непопулярным на факультетах естественных наук. Физики смотрели на него как на шарлатана. Биологи – как на провокатора. Даже среди философов он считался радикалом: слишком последовательным в своём скептицизме, слишком нежелающим делать исключения для «хороших» научных теорий.
Ноа это устраивало.
Он не искал одобрения. Он искал трещины.
Трещины в аргументах. Трещины в логике. Трещины в том, что люди принимали за само собой разумеющееся.
И сейчас – сейчас он нашёл трещину такого размера, что в неё можно было провалиться целиком.
Данные из ЦЕРНа были аномальными.
Не в том смысле, в каком физики обычно используют это слово – не отклонение от ожиданий, не статистический выброс. Аномальными в том смысле, что они были слишком нормальными. Слишком близкими к теории. Слишком идеальными.
Ноа не был физиком, но он умел читать графики. И то, что он видел на левом экране, противоречило всему, что он знал о том, как работает экспериментальная наука.
Экспериментальная наука работает так: у тебя есть гипотеза, ты проектируешь эксперимент, ты проводишь измерения, ты получаешь данные. Данные всегда – всегда – содержат шум. Статистические флуктуации, систематические ошибки, непредсказуемые воздействия среды. Твоя задача – отделить сигнал от шума, извлечь информацию из хаоса.
Хороший эксперимент даёт отношение сигнал/шум примерно пять к одному. Отличный – десять к одному. Рекордный – может быть, двадцать или тридцать к одному.
Данные из ЦЕРНа показывали отношение в миллион к одному.
Миллион.
Это было не просто хорошо. Это было невозможно. Физически невозможно, если верить всему, что человечество знало о квантовой механике и теории измерений.
Ноа перевёл взгляд на центральный экран.
Данные из Торонто были противоположностью.
Эксперименты по эмерджентности – сложные вычислительные модели, симулирующие самоорганизующиеся системы – давали результаты, которые не воспроизводились. Никогда. Одни и те же начальные условия, одни и те же параметры, одни и те же алгоритмы – и каждый раз разный результат. Как будто в сердце детерминистической системы поселился демон случайности, превращающий порядок в хаос.
Два набора данных.
Два противоположных результата.
Одно объяснение?
Ноа встал, разминая затёкшие ноги. Кровь прилила к ступням, вызвав неприятное покалывание. Он прошёлся по комнате – пять шагов до стены, пять обратно – и остановился у окна.
Город за стеклом был тихим. Редкие огни машин на улице, силуэты деревьев в парке напротив, далёкая башня телевышки, мигающая красным. Обычная ночь. Обычный мир.
Но что-то в этом мире было не так.
Ноа чувствовал это – не разумом, а чем-то более примитивным, тем инстинктом, который развился за три года в армейской разведке. Инстинктом, который говорил: данные не складываются. История не сходится. Кто-то врёт – или кто-то прячет.
Он вернулся к экранам.
Начал строить таблицу.
В левом столбце – эксперименты с аномально чистыми данными. В правом – эксперименты с аномально грязными. В середине – описание методологии.
Через час таблица заняла три страницы.
Через два – он увидел паттерн.
Паттерн был прост.
До отвращения прост.
Все эксперименты с идеальными результатами использовали редукционистский подход. Разделяй и властвуй. Разбирай сложную систему на элементарные компоненты, изучай компоненты по отдельности, потом собирай обратно. Классический метод, восходящий к Декарту и Ньютону. Метод, на котором построена вся современная физика.
Все эксперименты с хаотическими результатами использовали холистический подход. Изучай систему как целое. Смотри на связи, а не на элементы. Эмерджентность, самоорганизация, сложность. Маргинальный метод, любимый биологами и экологами, презираемый физиками.
Редукционизм – порядок.
Холизм – хаос.
Не случайность. Не совпадение. Систематично.
Как будто кто-то – или что-то – выставил оценки двум научным парадигмам. Одну одобрил. Другую – отверг.
Ноа откинулся в кресле, чувствуя, как сердце ускоряет ритм. Пульс стучал в висках – сто ударов в минуту, может быть, сто десять. Зрачки расширились, впитывая свет экранов. Адреналин, старый знакомый, поднимался по венам, обостряя восприятие.
Он узнавал это ощущение.
Так было в армии, когда он впервые понял, как работает дезинформация. Когда увидел, как из ничего создаются «факты», как ложь становится правдой, а правда – ложью. Когда осознал, что реальность – не данность, а конструкт, который можно строить и разрушать.
Тогда он решил уйти из армии.
Тогда он решил стать философом.
Тогда он думал, что понял всё.
Сейчас – сейчас он понимал, что не понял ничего.
Воспоминание пришло непрошенным.
Хайфа, 2118 год. Ему двадцать два. Он сидит в тесном фургоне, набитом оборудованием, и смотрит на экраны – три экрана, как сейчас, только тогда на них были другие данные.
Разведывательные сводки.
Перехваченные сообщения.
Анализ социальных сетей.
Его работа – находить паттерны. Связи между людьми, которые не должны быть связаны. Денежные потоки, которые не должны существовать. Слова, которые означают не то, что кажется.
Он хорош в этом.
Слишком хорош.
Через полгода его переводят в другой отдел. Теперь его работа – не находить паттерны, а создавать их. Фабриковать доказательства. Конструировать нарративы. Делать так, чтобы люди видели то, что нужно видеть, и не видели того, что видеть не нужно.
Он и в этом хорош.
Слишком хорош.
Первая операция – создание фейковой террористической ячейки. Несколько подставных аккаунтов, несколько подброшенных сообщений, несколько «утечек» в прессу. Через месяц полиция арестовывает пятерых человек. Они невиновны – или, по крайней мере, невиновны в том, в чём их обвиняют. Но доказательства железные. Доказательства, которые создал он.
Вторая операция – дискредитация журналиста, который копает слишком глубоко. Фотошоп, взломанная почта, анонимные обвинения. Через неделю журналист уходит в отставку. Его репутация уничтожена. Уничтожена человеком, который никогда с ним не встречался.
Третья операция – он не помнит деталей. Или не хочет помнить.
После третьей он подаёт рапорт об увольнении.
Командир пытается его отговорить. «Ты талантлив, – говорит он. – Ты нужен стране. Ты делаешь важную работу».
Ноа не спорит.
Он молча выходит из кабинета, едет домой, пакует вещи. Через неделю он уже в Берлине, записывается на философский факультет Гумбольдтского университета.
Он хочет понять.
Понять, как ложь становится правдой. Как факты создаются из пустоты. Как реальность оказывается менее прочной, чем казалось.
Он хочет понять – чтобы никогда больше не быть частью этого.
Двадцать лет спустя он всё ещё понимал.
Понимал, как работает наука. Как гипотезы превращаются в теории, теории – в парадигмы, парадигмы – в «само собой разумеющееся». Как учёные договариваются о том, что считать истиной, и как эти договоры меняются со временем.
Понимал – и считал, что это хорошо.
Не потому что любил ложь. Потому что не верил в альтернативу. «Объективная истина» – красивые слова, но что за ними стоит? Консенсус. Соглашение. То, что большинство учёных в данный момент готовы принять.
Ничего более прочного.
Ничего более надёжного.
Ноа не видел в этом трагедии. Он видел в этом освобождение. Если истина – конструкт, значит, её можно деконструировать. Если реальность – консенсус, значит, консенсус можно изменить.
Это давало надежду.
Или – давало раньше.
Сейчас он смотрел на три экрана и думал: а что, если консенсус – не метафора? Что, если реальность буквально определяется тем, на чём согласились наблюдатели? И что, если есть наблюдатели, о которых мы не знаем?
Безумие.
Но данные сходились.
04:30.
Ноа сидел перед экранами, и руки его дрожали.
Не от страха – от возбуждения. От того особого состояния, которое он испытывал, когда видел что-то, чего другие не видели. Когда паттерн проступал сквозь хаос, и мир на мгновение становился понятным.
Он начал писать.
Не статью – статья требовала осторожности, ссылок, академического этикета. Письмо. Несколько писем. Людям, которых он не знал лично, но чьи данные лежали перед ним.
Первое письмо – Рут Нкеми, ЦЕРН:
«Доктор Нкеми,
Мы не знакомы. Меня зовут Ноа Штерн, я занимаюсь философией науки в Берлине. Через коллег я получил доступ к сводке ваших последних экспериментальных данных.
Позвольте сразу перейти к делу: я вижу аномалию. Не в том смысле, в каком это слово обычно используют физики. Аномалию в том, как ваши данные соотносятся с данными из других областей.
Ваши эксперименты используют редукционистскую методологию. Ваши результаты – статистически невозможно чистые.
Эксперименты в системной биологии используют холистическую методологию. Их результаты – статистически невозможно грязные.
Я не знаю, что это означает. Но я уверен, что это не случайность.
Если вам интересно обсудить – я готов. Возможно, вместе мы увидим больше.
Ноа Штерн»
Он перечитал письмо.
Слишком прямолинейно? Может быть. Но он устал от академического этикета с его бесконечными оговорками и страхом сказать что-то определённое.
Отправил.
Второе письмо – Виктору Линю, Торонто:
«Доктор Линь,
Меня зовут Ноа Штерн. Я философ науки, изучаю эпистемологию и социологию научного знания.
Я получил данные о ваших недавних экспериментах. Результаты, которые не воспроизводятся, несмотря на идентичные условия. Хаос там, где должен быть порядок.
Одновременно я получил данные из ЦЕРНа. Там – обратная картина. Порядок там, где должен быть хаос.
Ваш метод – холистический. Их метод – редукционистский.
Я вижу паттерн. Не уверен, что он значит. Но мне кажется, вы можете помочь понять.
Если готовы поговорить – свяжитесь со мной.
Ноа Штерн»
Отправил.
Ещё несколько писем – коллегам в Мюнхене, Париже, Токио. Людям, которые работали на границе редукционизма и холизма, которые могли видеть обе стороны.
Он не знал, ответит ли кто-нибудь.
Он не знал, поверит ли кто-нибудь.
Но он должен был попробовать.
Небо за окном начинало светлеть.
Берлинский рассвет – медленный, неохотный, как будто солнце не уверено, стоит ли вообще подниматься над этим городом. Ноа стоял у окна и смотрел, как темнота отступает, уступая место серому полусвету.
Он думал о том, что написал.
О гипотезе, которую не решился сформулировать напрямую, но которая подразумевалась в каждом письме.
Кто-то – или что-то – оценивает научные методы. Одобряет одни. Отвергает другие. Буквально влияет на результаты экспериментов, делая одни идеальными, другие – хаотичными.
Кто?
Ноа не был религиозен. Вырос в семье, где отец был ортодоксальным раввином, мать – светской либералкой, и каждый ужин превращался в поле битвы между верой и разумом. Он выбрал разум. Точнее – выбрал сомнение. Сомневаться во всём, включая разум.
Бог? Нет. Слишком просто. Слишком по-человечески.
Инопланетяне? Возможно. Но это было бы странным способом установить контакт.
Что-то ещё? Что-то, о чём человечество не имело ни малейшего представления?
Он не знал.
Но он знал одно: если его гипотеза верна, мир был устроен совсем не так, как казалось.
Первый ответ пришёл через три часа.
Ноа дремал в кресле – не заснул по-настоящему, просто провалился в то странное состояние между сном и бодрствованием, когда мысли продолжают вращаться, но тело отключается. Звук уведомления вырвал его из полузабытья.
Письмо от Виктора Линя.
«Доктор Штерн,
Я получил ваше сообщение. И я хочу понять.
Вы правы: мои эксперименты не работают. Уже неделю – полный хаос. Я проверил всё, что мог проверить. Оборудование в порядке. Протоколы не менялись. Но результаты – как будто законы природы перестали действовать.
Одновременно – моя дочь болеет. Аутоиммунное заболевание. Лечение, которое работало три года, перестало работать в тот же день, когда сломались эксперименты.
Я не верю в совпадения.
Вы говорите о паттерне. Какой паттерн вы видите?
Виктор Линь»
Ноа перечитал письмо дважды.
Дочь. Болезнь. Лечение, которое перестало работать.
Это было… личным. Слишком личным. Он ожидал академической дискуссии, а получил человеческую трагедию.
Но именно это делало паттерн ещё более убедительным.
Виктор Линь использовал системный подход – не только в экспериментах, но и в медицине. Его терапия была холистической: не подавлять иммунную систему, а перепрограммировать её как целое.
И эта терапия перестала работать.
Одновременно с экспериментами.
Одновременно с тем, как – если верить данным из ЦЕРНа – редукционистские эксперименты стали работать идеально.
Как будто кто-то повернул рубильник. «Холизм – выключить. Редукционизм – усилить».
Ноа начал писать ответ.
«Доктор Линь,
Спасибо, что ответили. И – мне жаль насчёт вашей дочери. Я понимаю, это не просто научная проблема для вас.
Паттерн, который я вижу, такой:
Все эксперименты, использующие редукционистский метод (разделение на части, изучение компонентов по отдельности), в последние недели дают аномально чистые результаты. Погрешности, которых не должно быть. Совпадение с теорией, которое статистически невозможно.
Все эксперименты, использующие холистический метод (изучение системы как целого, эмерджентность, самоорганизация), дают аномально грязные результаты. Хаос. Невоспроизводимость.
Это не ограничивается физикой и биологией. Я вижу следы в химии, экологии, даже в социальных науках.
Моя гипотеза – и я понимаю, как безумно это звучит – что кто-то или что-то оценивает наши методы. Одобряет одни. Отвергает другие.
Не знаю, кто или что. Не знаю, почему.
Но я уверен, что это не случайность.
Ноа Штерн
P.S. Ваша терапия для дочери – она холистическая?»
Отправил.
Ответ пришёл через двадцать минут.
«Да. Полностью холистическая. Перепрограммирование иммунной системы как целого.
Чёрт.
Виктор»
Второй ответ пришёл вечером.
Ноа провёл день в странном оцепенении – не спал, не ел толком, только пил чай и смотрел на экраны. Письмо от Рут Нкеми застало его врасплох.
«Доктор Штерн,
Я прочитала ваше сообщение. Дважды. Первый раз подумала, что вы сумасшедший. Второй раз – что, возможно, сумасшедшая я.
Мои данные идеальны. Слишком идеальны. Я провела два эксперимента – с разным оборудованием, разными атомами, разными командами. Оба дали идентичные результаты. Погрешность в миллион раз ниже теоретического предела.
Это невозможно.
Но это факт.
Вы говорите о паттерне. Редукционизм – порядок, холизм – хаос. Мой метод редукционистский. Мои данные идеальные.
Совпадение?
Не думаю.
Но я не понимаю, что это значит. И не уверена, что хочу понять.
Рут Нкеми»
Ноа улыбнулся – впервые за сутки.
«Не уверена, что хочу понять».
Он узнавал это чувство. Момент, когда знание перестаёт быть безопасным. Когда следующий шаг может изменить всё.
Он написал ответ:
«Доктор Нкеми,
Понимаю ваше нежелание. Некоторые двери лучше не открывать.
Но я думаю, что эта дверь уже открыта. Мы просто ещё не заглянули внутрь.
Я связался с несколькими коллегами. Все видят то же самое, каждый в своей области. Редукционизм работает. Холизм ломается.
Что-то происходит. Что-то глобальное.
Хотите знать, что – или предпочитаете не знать?
Ноа Штерн»
Ответ пришёл через час:
«Хочу знать. Даже если это разрушит всё, во что я верила.
Рут»
23:00.
Ноа сидел перед экранами и думал.
За последние сутки он получил двенадцать ответов. Двенадцать учёных из разных стран, разных дисциплин, разных методологических лагерей – и все видели одно и то же.
Аномалия.
Не локальная. Глобальная.
Что-то менялось в самой ткани реальности. Или – что-то всегда было там, а теперь стало заметным.
Он открыл новый документ и начал писать. Не письмо – заметки для себя. Попытку сформулировать то, что он видел.
«Гипотеза:
Реальность – не объективная данность. Реальность – консенсус.
Это не метафора. Буквально.
Каждое наблюдение – голос. Каждый наблюдатель – избиратель. Результат наблюдения – взвешенное среднее всех голосов.
Квантовая механика подсказывает: наблюдатель влияет на наблюдаемое. Волновая функция коллапсирует при измерении. Но что, если это верно не только на квантовом уровне?
Что, если на макроуровне – то же самое, только замаскировано большим числом наблюдателей?
Что, если есть наблюдатели, о которых мы не знаем?
Что, если их голоса весят больше, чем наши?
Следствие:
Если такие наблюдатели существуют – и если они предпочитают редукционизм холизму – это объяснило бы паттерн.
Их 'голос' усиливает результаты редукционистских экспериментов.
Их 'голос' подавляет результаты холистических экспериментов.
Они буквально определяют, какие методы работают, а какие нет.
Вопросы:
Кто они?
Откуда они?
Почему именно сейчас?
Чего они хотят?»
Ноа остановился.
Перечитал написанное.
Безумие. Абсолютное, клиническое безумие. Если бы он увидел такой текст год назад, он бы рассмеялся. Или забеспокоился о психическом здоровье автора.
Но данные сходились.
Данные, чёрт возьми, сходились.
Он думал о своём отце.
Ребе Давид Штерн, ортодоксальный раввин, человек, который верил в Бога так же твёрдо, как Ноа верил в сомнение. Они не разговаривали уже пятнадцать лет – с того дня, когда Ноа объявил, что не верит ни в Бога, ни в Тору, ни в традицию.
«Ты потерял веру», – сказал тогда отец.
«Я нашёл разум», – ответил Ноа.
«Это одно и то же», – сказал отец. – «Только ты этого не понимаешь».
Ноа не понял тогда.
Понимал ли сейчас?
Вера – это принятие чего-то без доказательств. Разум – это требование доказательств.
Но что, если доказательства указывают на то, что невозможно принять разумом?
Что, если данные – те самые данные, которым он посвятил жизнь – говорят о чём-то, что разрушает само понятие «данных»?
Ноа встал, прошёлся по комнате.
Пять шагов до стены. Пять обратно.
Он всю жизнь говорил: истина – конструкт. Реальность – консенсус. Объективного мира не существует, есть только интерпретации.
И вот – он видел буквальное подтверждение своей философии.
Кто-то – или что-то – буквально конструировал реальность. Буквально формировал консенсус. Буквально решал, какие истины будут работать, а какие нет.
Он должен был радоваться.
Он был прав всё это время.
Но радости не было.
Было что-то другое. Что-то, похожее на страх, но глубже. Экзистенциальный холод, пробирающий до костей.
Потому что если истина – конструкт, то что он делал всю жизнь? Конструировал конструкты? Создавал интерпретации интерпретаций?
И если есть кто-то, кто конструирует лучше него – мощнее, масштабнее, фундаментальнее – то какой смысл в его работе?
Какой смысл вообще во всём?
00:47.
Ноа сидел в кресле, глядя на тёмный экран.
Он выключил мониторы час назад – не мог больше смотреть на данные. Но и заснуть не мог. Мысли вращались в голове, как белки в колесе, бесконечно и бессмысленно.
За окном – ночной Берлин. Огни, тени, редкие прохожие. Мир, который продолжал существовать, не подозревая, что кто-то, возможно, решает за него, существовать ли ему вообще.
Ноа думал о Рут Нкеми.
О её словах: «Не уверена, что хочу понять».
Он понимал. Некоторые вещи лучше не знать.
Но он не мог не знать. Не теперь, когда увидел паттерн.
Он думал о Викторе Лине.
О его дочери, которая умирала, потому что кто-то – или что-то – решил, что холистическая медицина не должна работать.
Это было несправедливо.
Несправедливо, бессмысленно, жестоко.
Но когда справедливость была частью уравнения?
Ноа думал о себе.
О двадцати годах, потраченных на деконструкцию истины. О статьях, книгах, лекциях. О студентах, которым он объяснял, что объективной реальности не существует.