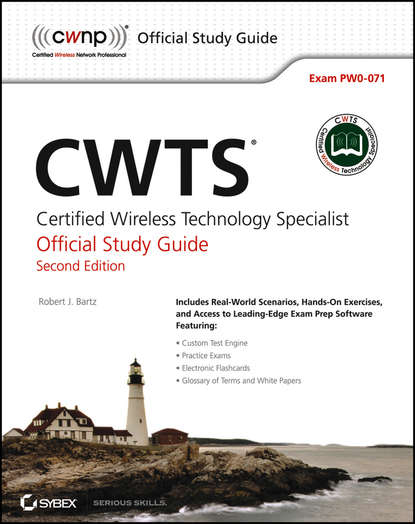Свидетели

- -
- 100%
- +
– Пятьсот тысяч. Приблизительно. В лондонском архиве. Я не проверяла другие.
Сара кивнула. Медленно. Как будто информация не удивила её, а только подтвердила что-то.
– Ты провела анализ?
– Да. Десять тысяч записей, стратифицированная выборка. Контрольная группа. Всё по протоколу.
– И результат?
– Девяносто девять и восемьдесят семь процентов. Статистически значимо. Не артефакт алгоритма, не галлюцинация, не взлом.
Сара встала. Прошла к окну, остановилась спиной к Рут. Её силуэт был чётким на фоне вечернего неба – серо-оранжевого, как всегда после Компромисса.
– Когда ты это обнаружила?
– Вчера. Сорокатысячная запись. Юбилей, – Рут усмехнулась, но усмешка вышла кривой. – Пожилая женщина, хоспис, мирная смерть. В последнюю секунду я увидела себя. И начала проверять.
– И проверяла всю ночь.
– Да.
Сара повернулась. Её лицо было странным – не испуганным, не удивлённым. Сосредоточенным. Как у человека, который принимает решение.
– Почему ты пришла ко мне?
Рут не ожидала этого вопроса.
– Потому что… ты единственная, кому я могу доверять. Кто поймёт.
– Понять – это одно. – Сара вернулась к дивану, села напротив Рут. – Я спрашиваю: почему ты пришла именно ко мне? Не к психологу, не к техникам, не в отдел контроля качества. Ко мне.
Рут задумалась. Она не формулировала это для себя – просто знала, что Сара была правильным выбором. Но почему?
– Потому что ты директор, – сказала она наконец. – Если это… что бы это ни было… если это важно, ты должна знать. И потому что… – она замолчала.
– Потому что?
– Потому что когда я позвонила, ты не удивилась. – Рут посмотрела на Сару прямо. – Ты спросила «всё в порядке», но в твоём голосе не было удивления. Как будто ты ждала этого звонка.
Сара не отвела взгляд.
– Может быть, я хорошо скрываю эмоции.
– Ты хорошо скрываешь эмоции. Но не от меня.
Молчание повисло между ними – тяжёлое, полное невысказанного.
– Сара, – сказала Рут тихо. – Ты знала. Ты знала до того, как я позвонила.
Сара встала снова. На этот раз она не пошла к окну – пошла к бару, налила себе ещё виски. Рут видела, как её рука чуть дрогнула, когда она поднимала бутылку.
– Я не знала, – сказала Сара, не оборачиваясь. – Не так, как ты думаешь.
– Тогда как?
– Я… подозревала. Давно. – Сара вернулась с полным стаканом. Её лицо было бледнее, чем несколько минут назад. – Были признаки. Мелочи. Вещи, которые не складывались в картину, пока ты не позвонила.
– Какие вещи?
Сара села. Сделала глоток виски – долгий, как будто ей нужно было время.
– Шесть лет назад, – начала она, – была проверка архива. Рутинная, плановая. Техники заметили аномалию в метаданных – повторяющийся паттерн в финальных образах. Они думали, это ошибка алгоритма, начали разбираться.
– И что нашли?
– Ничего. Официально. Проверку свернули через неделю. Без объяснений, без отчёта. Я была тогда заместителем директора, и даже мне не сказали почему.
– Но ты узнала.
– Я… нашла способ. – Сара не уточнила какой. – Паттерн был реальным. Но его засекретили. На самом высоком уровне.
Рут чувствовала, как что-то холодное сжимается в груди. Засекретили. Это означало, что кто-то знал. Знал всё это время.
– Кто?
– Не знаю. Выше директора Бюро. Может, правительство. Может, Институт.
– Какой институт?
Сара помедлила. В её глазах мелькнуло что-то – осторожность, может быть, или страх.
– Институт Танатологии, – сказала она наконец. – Швейцария. Частный исследовательский центр. Они создали технологию Кларити.
Рут знала об Институте – каждый свидетель знал. Это было место, откуда всё началось: нейроинтерфейсы, алгоритмы реконструкции, сам Закон о Прозрачности. Но она никогда не думала о нём как о чём-то важном – просто исторический факт, часть профессионального знания.
– При чём тут они?
– Не знаю. – Сара покачала головой. – Но когда я начала копать шесть лет назад, мне позвонили. Вежливо попросили остановиться. Намекнули, что моя карьера может… пострадать.
– И ты остановилась?
– Я была заместителем директора. У меня была семья – в смысле, надежда на семью. – Сара усмехнулась, но усмешка была горькой. – Я сделала то, что делают все. Закрыла глаза. Решила, что это не моё дело.
Рут молчала. Она думала о шести годах. О записях, которые она просматривала всё это время. О лицах – своих лицах – которые видели умирающие, пока она закрывала глаза.
– Почему ты рассказываешь мне это сейчас?
– Потому что ты пришла. – Сара посмотрела на неё. – Потому что если бы я знала тогда, что это о тебе… может быть, я не остановилась бы. Может быть.
– Но ты не знала.
– Нет. Я не знала, чьё это лицо. Только что оно повторяется.
Они сидели в тишине. За окном темнело – лондонские сумерки, короткие и холодные. Рут думала о том, что узнала. О засекреченном паттерне. Об Институте. О людях, которые знали и молчали.
И о том, что теперь знает она.
– Что мне делать? – спросила она наконец.
Сара долго не отвечала. Она смотрела в свой стакан, как будто искала там ответ.
– Есть человек, – сказала она наконец. – С которым тебе нужно поговорить.
– Кто?
– Маркус Вейл.
Имя ничего не сказало Рут – или почти ничего. Она слышала его раньше, в контексте истории технологии. Один из создателей Кларити. Один из авторов Закона о Прозрачности.
– Он жив?
– Да. Ему шестьдесят восемь. Он возглавляет Институт Танатологии. – Сара помолчала. – И он ищет тебя.
Рут замерла.
– Что?
– Шесть лет назад, когда мне позвонили и попросили остановиться, – голос Сары был ровным, но в нём слышалось напряжение, – звонок был от него. Лично. Он сказал… – она запнулась. – Он сказал, что придёт время, когда я пойму. Когда она сама придёт ко мне. И тогда я должна буду направить её к нему.
– Она?
– Ты. – Сара посмотрела на Рут. – Он знал, что это будет ты. За шесть лет до того, как ты узнала сама.
Рут чувствовала, как реальность сдвигается под ногами. Шесть лет. Вейл знал. Знал и ждал. Всё это время – он ждал её.
– Почему?
– Не знаю. Он не объяснил. Только сказал, что когда ты будешь готова, я должна дать тебе его контакт. – Сара встала, подошла к письменному столу в углу комнаты. Открыла ящик, достала что-то. – Вот.
Она протянула Рут карточку. Простую, белую, с единственной строкой текста: имя, должность, адрес.
Маркус Вейл. Директор Института Танатологии. Альпы, Швейцария.
– Он ждёт тебя, – сказала Сара. – Тридцать лет, если верить тому, что он сказал мне.
Рут смотрела на карточку. Буквы были чёткими, аккуратными. Они не объясняли ничего.
– Тридцать лет, – повторила она. – Я родилась сорок семь лет назад. Ему было бы тогда…
– Тридцать восемь. – Сара кивнула. – Я проверяла. В 2047 году он пережил клиническую смерть. Четыре минуты двенадцать секунд. После этого он создал технологию записи смерти.
Рут подняла глаза.
– Он видел что-то. Там. Во время клинической смерти.
– Возможно.
– И он думает, что это связано со мной.
– Я не знаю, что он думает. – Сара вернулась на диван, села напротив Рут. – Я только знаю, что он ждал этого момента очень долго. И что он единственный человек, у которого могут быть ответы.
Рут снова посмотрела на карточку. Швейцария. Институт Танатологии. Место, откуда всё началось.
Она думала о пятистах тысячах лиц. О записях, сделанных до её рождения. О статистике, которая не врала, и о реальности, которая перестала быть понятной.
– Есть ещё кое-что, – сказала Сара тихо.
Рут подняла глаза.
– Что?
– То, почему я не стала копать дальше шесть лет назад. – Сара замолчала. Её лицо было странным – не закрытым, но защищённым, как будто она готовилась к удару. – У меня были свои причины не хотеть узнать правду. Личные причины.
– Какие?
Сара не ответила сразу. Она смотрела в окно – на темнеющее небо, на огни города, на что-то, чего Рут не могла видеть.
– Может быть, я расскажу тебе. Когда-нибудь. Но не сейчас.
Рут хотела настоять. Хотела спросить, потребовать объяснений. Но что-то в голосе Сары остановило её – что-то, похожее на боль. Старую, глубокую, не до конца зажившую.
– Хорошо, – сказала она. – Не сейчас.
Сара кивнула. Благодарность мелькнула в её глазах – быстрая, почти незаметная.
– Поезжай в Швейцарию, – сказала она. – Встреться с Вейлом. Узнай, что он знает. А потом… – она не договорила.
– Потом?
– Потом реши, хочешь ли ты знать остальное. Потому что некоторые двери, Рут… некоторые двери лучше не открывать.
Рут встала. Карточка была в её руке – лёгкая, бумажная, ничего не значащая.
И одновременно – ключ к чему-то, чего она ещё не понимала.
– Спасибо, – сказала она.
– Не благодари. – Сара тоже встала. – Я не уверена, что делаю тебе одолжение.
Они стояли друг напротив друга – две женщины, связанные двадцатью годами общей работы и общих потерь. Рут думала о том, что Сара не рассказала ей. О личных причинах. О дверях, которые лучше не открывать.
– Сара, – сказала она. – Что бы это ни было… я справлюсь.
Сара улыбнулась. Улыбка была грустной.
– Я знаю. Поэтому и даю тебе этот контакт. – Она помолчала. – Просто… будь осторожна. Вейл – не тот человек, каким кажется. Он потерял кого-то важного, давно. И с тех пор… он делает вещи. Ради того, чтобы вернуть то, что потерял.
– Какие вещи?
– Поезжай и узнай. – Сара открыла дверь квартиры. – И позвони мне, когда вернёшься. Если вернёшься.
Рут вышла в коридор. Обернулась.
– Если вернусь?
– Я не знаю, что ты найдёшь там, – сказала Сара. – Но я знаю, что это изменит тебя. Так или иначе.
Дверь закрылась.
Рут стояла в коридоре, в полутьме, с карточкой в руке. За окном лестничной клетки горели огни Лондона – миллионы огней, миллионы жизней, миллионы людей, которые не знали того, что знала она.
Пятьсот тысяч из них видели её в момент смерти.
И человек по имени Маркус Вейл ждал её тридцать лет.
Рут убрала карточку в карман. Начала спускаться по лестнице.
Швейцария. Институт. Ответы – или что-то похожее на них.
Она не знала, что найдёт. Но она знала, что должна попытаться.
Потому что иначе – она проведёт остаток жизни, глядя на своё лицо в глазах умирающих.
И никогда не узнает почему.
Глава 4. Доступ
Три дня.
Лео считал их, как заключённый считает дни до освобождения – только в его случае освобождение имело другое значение. Три дня с того разговора с Агнес. Три дня, в которые он ждал, планировал и готовился к разговору, который должен был состояться.
Отец приходил каждый день. Сидел рядом, говорил о работе, о погоде, о чём угодно, кроме того, что имело значение. Лео видел в его глазах страх – тот же страх, что был там с момента диагноза, только глубже, плотнее, как осадок на дне стакана. Хидео всё ещё не дал ответа насчёт записей смерти. Он сказал «я подумаю» и с тех пор думал – или делал вид, что думает, надеясь, что Лео забудет или передумает.
Лео не собирался забывать. Он просто нашёл другой путь.
Агнес.
Она заходила в его палату каждое утро и каждый вечер – проверить капельницу, принести еду, убедиться, что он не умер за ночь. Стандартные обязанности медсестры. Но после того разговора – после рисунков, после её побелевшего лица и слов «откуда ты её знаешь» – между ними что-то изменилось. Она задерживалась дольше. Смотрела на него иначе. Как на загадку, которую хотела разгадать.
Лео понимал это желание. Он чувствовал то же самое.
На третий день он решил действовать.
Агнес пришла в шесть вечера, когда за окном уже темнело. Лондонские сумерки в марте были короткими – серое небо переходило в тёмно-синее за какие-то полчаса, без всяких закатов и переходных цветов. Лео лежал в кровати, но не спал. Он ждал.
– Ужин через час, – сказала Агнес, проверяя показания монитора у его кровати. – Сегодня суп. Куриный, кажется.
– Агнес.
Она подняла глаза. Что-то в его голосе – серьёзность, может быть, или та взрослость, которую он научился надевать, как костюм – заставило её остановиться.
– Да?
– Мне нужно с вами поговорить. Не здесь.
Агнес нахмурилась.
– Что значит «не здесь»?
– У вас есть комната? Для персонала. Где вы отдыхаете, пьёте кофе, делаете что-то, когда не при пациентах.
– Есть. Но…
– Мне нужно поговорить там. Без камер. – Лео кивнул на маленький объектив в углу потолка. Камеры были во всех палатах хосписа – для безопасности пациентов, как объяснили ему в первый день. Он не возражал тогда. Теперь – возражал.
Агнес проследила его взгляд. Её лицо стало осторожным.
– Лео, если ты хочешь сделать что-то…
– Я не собираюсь причинять себе вред, – он прервал её раньше, чем она закончила. – Это не то. Но то, о чём я хочу поговорить… это не должно быть записано.
– Почему?
– Потому что это касается записей смерти.
Молчание. Агнес смотрела на него, и Лео видел, как в её глазах что-то сдвигается – осторожность уступает место любопытству, страх – чему-то, похожему на надежду.
– Через двадцать минут, – сказала она наконец. – Комната для персонала в конце коридора, за пожарной дверью. Я приду за тобой.
Комната оказалась маленькой и уютной – полная противоположность больничной стерильности. Мягкий диван у стены, обтянутый тканью в цветочек. Кофемашина на столике, рядом – коробка с печеньем. На стене – фотографии: групповые снимки персонала, открытки от бывших пациентов, детские рисунки.
Лео сел на диван. Его тело протестовало – боль в тазу стала сильнее за последние дни, и каждое движение давалось с трудом. Но он научился игнорировать это. Боль была фоном, шумом. Важным было другое.
Агнес закрыла дверь. Села напротив него, на офисный стул с потёртой обивкой.
– Итак, – сказала она. – Записи смерти.
Лео кивнул. Он репетировал этот разговор три дня – каждое слово, каждый аргумент. Но теперь, когда момент настал, заготовки казались неуместными. Слишком формальными. Слишком похожими на презентацию.
– Мне нужен доступ, – сказал он просто. – К записям. Много записей. Я хочу найти паттерн.
Агнес не ответила сразу. Она смотрела на него – не как медсестра на пациента, а как человек на человека.
– Ты понимаешь, что это незаконно? – спросила она наконец.
– Да.
– Записи смерти закрыты для несовершеннолетних. Даже для взрослых доступ ограничен – только ближайшие родственники, только после подачи заявки, только…
– Я знаю, – прервал Лео. – Я читал закон. Весь.
Агнес приподняла бровь.
– Весь?
– Двести сорок три страницы, включая дополнения и комментарии. – Он пожал плечами. – У меня много свободного времени.
Что-то мелькнуло в глазах Агнес – удивление, может быть, или уважение. Она откинулась на спинку стула.
– Даже если бы я хотела помочь – а я не говорю, что хочу – у меня нет доступа. Я медсестра, не свидетель. Записи хранятся в защищённых базах данных…
– У вас есть доступ к медицинским записям пациентов, – сказал Лео. – Включая тех, кто умер здесь.
– Это другое.
– Медицинские записи включают ссылки на записи смерти. Для родственников, которые хотят их посмотреть. Система связана.
Агнес замолчала. Её лицо стало осторожным – она понимала, куда он ведёт.
– Ты хочешь, чтобы я использовала свой доступ, чтобы…
– Чтобы показать мне записи. Да.
– Это не просто незаконно, Лео. Это… – она искала слово. – Это неправильно. Ты ребёнок. Тебе двенадцать лет. Записи смерти – это… ты не представляешь, что там.
– Я умираю, – сказал Лео.
Слова вышли ровно, без дрожи. Он практиковался произносить их перед зеркалом – пока не научился говорить это так, как говорят о погоде или о меню на ужин.
– Мне осталось… врачи говорят «месяцы», но мы оба знаем, что это оптимистичная оценка. Может быть, недели. Может быть, меньше. – Он смотрел на Агнес прямо. – Вы думаете, записи смерти могут меня травмировать? Хуже, чем то, что я уже переживаю?
Агнес не ответила. Её руки сжались на коленях.
– Я понимаю, почему вы не хотите помогать, – продолжил Лео. – Это риск для вас. Если кто-то узнает – вы потеряете работу, может быть, хуже. И ради чего? Ради какого-то умирающего ребёнка с бредовой идеей.
– Это не…
– Но вот в чём дело. – Он наклонился вперёд, игнорируя вспышку боли. – Вы уже вовлечены. С того момента, как вы увидели мои рисунки и узнали лицо. Вы сказали, что ваша мать видела эту женщину в момент смерти. Что вы искали её потом, прогоняли через базы данных, и ничего не нашли.
Агнес молчала. Её лицо было неподвижным, но Лео видел: он попал в цель.
– Вы хотите знать, – сказал он. – Так же сильно, как я. Может быть, сильнее. Потому что для вас это не абстрактный вопрос. Это ваша мать. Это последнее, что она видела перед смертью.
– Лео…
– Я могу найти ответ. Если вы дадите мне доступ к записям – я найду паттерн. Я знаю, как искать. У меня есть метод.
Он достал из кармана пижамы блокнот – тот самый, чёрный, потрёпанный. Положил на стол между ними.
– Посмотрите. Пожалуйста.
Агнес смотрела на блокнот долго – может быть, минуту, может быть, больше. Потом протянула руку и взяла его.
Она листала страницы медленно. Лео знал, что она видит: столбцы цифр, графики, нарисованные от руки, таблицы с датами и показателями. Записи симптомов, отмеченные с точностью до минуты. Анализ снов – каждый эпизод задокументирован, каждая деталь зафиксирована.
– Ты вёл это… сколько? – спросила она, не отрывая глаз от страниц.
– Четыре месяца. С момента диагноза.
– Каждый день?
– Каждый день. Иногда – несколько раз в день.
Агнес остановилась на странице с записью о снах. Лео видел её глаза – они двигались по строчкам, впитывая информацию.
– «Субъект: женщина, приблизительно 45-50 лет», – прочитала она вслух. – «Рост выше среднего, около 175 см. Телосложение худощавое. Волосы тёмные, прямые, до плеч, с заметными седыми прядями». – Она подняла глаза. – Это… точно.
– Я записываю то, что вижу. Как можно точнее.
– Зачем?
Вопрос был простым, но Лео понимал: за ним стояло нечто большее. Не «зачем ты записываешь», а «зачем ты делаешь всё это». Зачем тратишь последние недели жизни на документирование собственной смерти.
– Потому что это единственное, что я могу контролировать, – сказал он.
Слова были честными. Слишком честными, может быть. Но Лео устал притворяться.
– Я не могу остановить болезнь. Не могу решить, когда умру, или как. Не могу выбрать, буду ли бояться – я боюсь, каждую ночь, когда просыпаюсь и понимаю, что ещё жив, и скоро это изменится. – Он замолчал. Собрался с мыслями. – Но я могу понять. Могу задать вопросы и искать ответы. Могу… – он искал слово. – Могу быть не просто тем, с кем это происходит. Могу быть тем, кто наблюдает.
Агнес закрыла блокнот. Положила его на стол.
– Моему сыну было бы сейчас тридцать два, – сказала она тихо.
Лео не ожидал этого. Он замер, не зная, что ответить.
– Он умер, когда ему было восемь. Лейкемия, как у тебя. Тогда не было технологии Кларити – записей смерти не существовало. Я сидела рядом с ним, держала его руку, и когда он… – она не договорила. – Я никогда не узнаю, о чём он думал. Что видел. Было ли ему страшно.
Тишина заполнила комнату. За стеной слышались голоса – другие медсёстры, другие пациенты, другие жизни, продолжающие идти своим чередом.
– Когда появился Закон о Прозрачности, – продолжила Агнес, – я думала: вот теперь мы будем знать. Теперь никому не придётся гадать, что чувствовал близкий человек в последний момент. Это казалось… утешительным.
– Но?
– Но моя мать умерла шесть лет назад. И я посмотрела её запись. – Агнес подняла глаза. – Знаешь, что я увидела?
Лео покачал головой.
– Я увидела, что в последнюю секунду она думала не обо мне. Не о моём отце, не о брате, не о внуках. Она думала о женщине, которую я не знала. О ком-то чужом. – Агнес усмехнулась, но усмешка была горькой. – Вся моя жизнь – рядом с ней. Всё, что я для неё делала. И в конце… я была не там. Не в её последней мысли.
– Это та женщина? – спросил Лео. – Та, что на моих рисунках?
– Да.
– Вы искали её.
– Искала. Годами. Думала – может, у мамы была тайная жизнь. Может, любовник, или подруга, о которой я не знала. Что-то, что объяснило бы… – она покачала головой. – Но ничего не нашла. Эта женщина – призрак. Её не существует.
– Она существует, – сказал Лео. – Я вижу её каждую ночь.
Агнес посмотрела на него. Долго, внимательно, как будто пыталась увидеть что-то за поверхностью.
– Почему ты? – спросила она. – Почему именно ты видишь её во сне?
– Не знаю. Пока. – Лео взял блокнот, прижал к груди. – Но я хочу узнать. И если в записях смерти есть ответ – я его найду.
Агнес молчала долго. Лео считал секунды – привычка, выработанная за месяцы документирования. Двадцать три секунды. Двадцать четыре. Двадцать пять.
На двадцать шестой секунде она заговорила:
– Если я соглашусь – а я не говорю, что соглашаюсь – это будет на моих условиях.
Лео кивнул. Не перебивал.
– Первое: никому ни слова. Твоему отцу, врачам, другим медсёстрам – никому. Если кто-то узнает, это конец. Для меня, для тебя, для всего.
– Понимаю.
– Второе: я выбираю записи. Ты не будешь смотреть что попало. Я найду… – она помедлила, – подходящие случаи. Мирные смерти. Без насилия, без боли.
– Это ограничит выборку.
– Это защитит тебя.
Лео хотел возразить – он не нуждался в защите, не так, как она думала – но промолчал. Условие было разумным. Начать с мирных смертей, получить данные, потом – если потребуется – расширить.
– Хорошо, – сказал он.
– Третье: если я увижу, что это… ломает тебя. Что ты перестаёшь справляться. Я останавливаюсь. Без обсуждений, без переговоров. Просто – стоп.
– А если я буду справляться?
– Тогда продолжим. – Агнес встала. – И последнее.
– Да?
– Если ты что-то найдёшь – что-то важное про эту женщину – ты расскажешь мне. Первой. До того, как скажешь кому-то ещё.
Лео понимал, почему она просит об этом. Это была не жадность и не желание контроля. Это была та же потребность, что двигала им: знать. Понять. Не оставаться в неведении.
– Обещаю, – сказал он.
Агнес кивнула. На её лице было что-то странное – облегчение, может быть, или решимость, или страх от того, что она только что согласилась сделать.
– Завтра, – сказала она. – После вечернего обхода. Я принесу планшет с защищённым доступом. Мы начнём.
Ночь была долгой.
Лео лежал в темноте и смотрел на потолок – на ту самую трещину, похожую на молнию, на реку, на дорогу в никуда. Он думал о том, что произойдёт завтра. О записях, которые увидит. О лицах умирающих – чужих людей, которых он никогда не встречал и никогда не встретит.
Страх был. Он не лгал себе. Где-то глубоко, под слоями логики и методологии, под всеми рациональными обоснованиями – страх. Не страх смерти как таковой. Страх того, что он увидит. Страх понимания.
Но любопытство было сильнее.
Он заснул около трёх ночи и проснулся в пять, мокрый от пота, с колотящимся сердцем. Сон был знакомым: женщина, свет, ожидание. Но что-то изменилось. Она была ближе. И когда он смотрел на неё – она улыбалась.
Не широко, не радостно. Просто – уголки губ, чуть приподнятые. Улыбка человека, который знает что-то, чего не знаешь ты. Улыбка ожидания.
Лео записал сон в блокнот. Руки дрожали – немного, почти незаметно, но он заметил. Записал и это.
Тремор при письме: незначительный. Причина: волнение? Ухудшение состояния? Требует наблюдения.
Научный метод. Даже когда объект наблюдения – ты сам. Особенно тогда.
День тянулся невыносимо.
Завтрак, который он не съел. Обход врача, который говорил что-то о показателях и корректировке дозировки. Визит отца – короткий, неловкий, как всегда. Хидео сидел рядом, держал его руку и молчал, и Лео чувствовал его страх, как запах – кислый, тяжёлый, невозможный игнорировать.
– Пап, – сказал он в какой-то момент.
– Да?
– Тот разговор. О записях смерти. Ты подумал?
Хидео отвёл глаза.
– Лео…
– Просто да или нет.
Молчание. Потом:
– Нет. Не сейчас. Мне нужно больше времени.
Лео не стал спорить. Он знал, что это значит: нет навсегда, просто растянутое во времени. Отец не мог сказать «нет» прямо – это было бы слишком жестоко, слишком окончательно. Поэтому он говорил «позже», «подумаю», «не сейчас». Отсрочка вместо отказа.
Раньше это злило Лео. Теперь – нет. Он понимал: у него был другой путь. Агнес.
После ухода отца он взял планшет и открыл файл с заметками. Начал составлять список вопросов – то, что хотел узнать из записей.