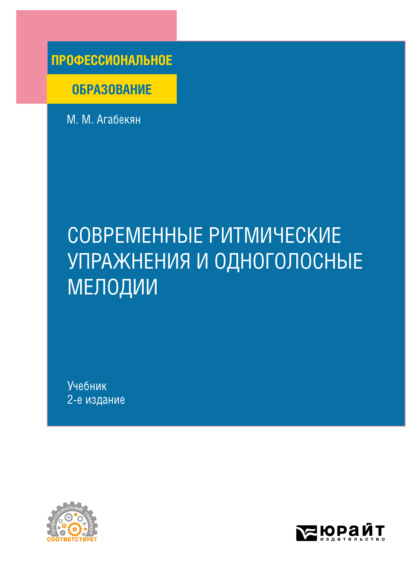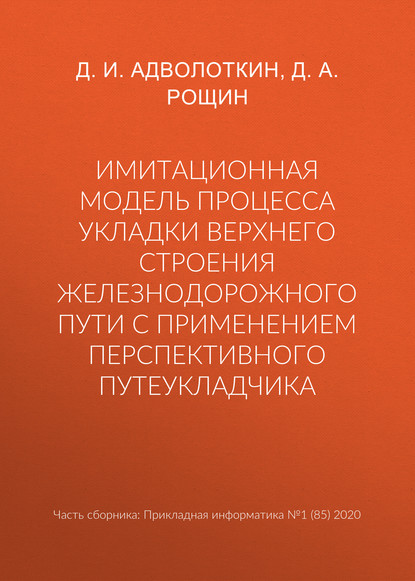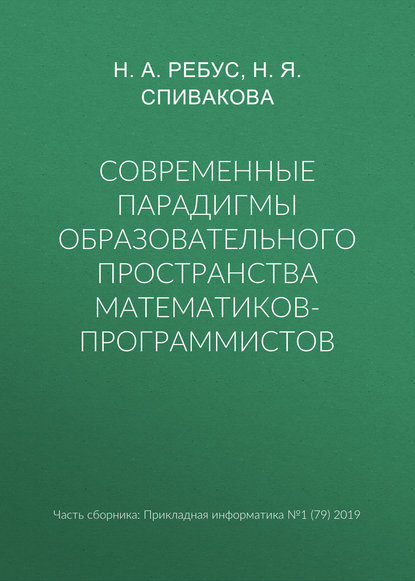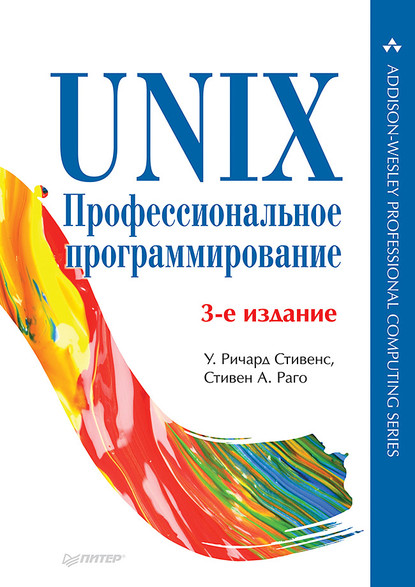Тень Больцмана
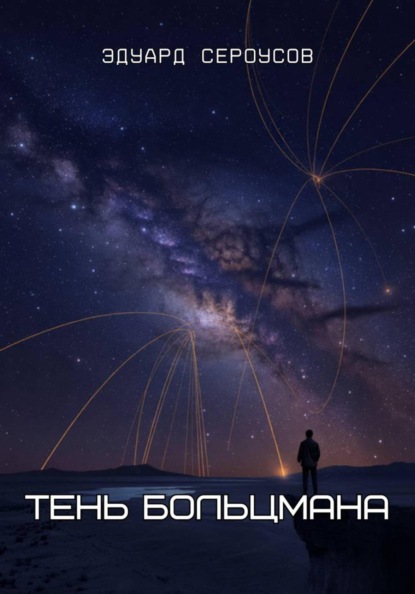
- -
- 100%
- +

Часть I: Гипотеза
Глава 1: Доказательство
Уравнение было красивым.
Дмитрий Сергеевич Ковалёв откинулся на спинку кресла и позволил себе редкую роскошь – просто смотреть. Не анализировать, не проверять, не искать ошибку в семнадцатый раз за последние трое суток. Просто смотреть на то, что он создал.
Три доски, покрытые его почерком – мелким, угловатым, с характерным наклоном влево, который преподаватели в московской школе так и не смогли исправить за десять лет. Меловая пыль на пальцах, на рукавах серого пиджака с заплатами на локтях, на полу – везде. Ковалёв вдохнул её сухой, чуть царапающий горло запах и подумал, что это, наверное, запах истины. Или, по крайней мере, той её части, которую человеческий разум способен ухватить.
Финальное уравнение занимало нижний правый угол центральной доски. Вокруг него – хаос промежуточных выкладок, зачёркнутых тупиков, стрелок, ведущих в никуда. Но само оно было чистым. Лаконичным. Неизбежным.
– Ну вот, – сказал он вслух по-русски, обращаясь к пустому кабинету. – Вот и всё.
За окном догорал калифорнийский закат – оранжевый, розовый, возмутительно оптимистичный для того, что только что произошло в этой комнате. Ковалёв никогда не привыкнет к этим закатам. Тридцать два года в Америке, а он всё ещё скучал по серому московскому небу, по честной хмурости, которая не притворялась, что мир прекрасен.
Мир не был прекрасен. Мир был математической структурой, подчинявшейся определённым законам, и Ковалёв только что доказал кое-что очень неприятное об этих законах.
Он встал, разминая затёкшую спину, и подошёл к окну. Кампус Калифорнийского технологического института раскинулся внизу – аккуратные дорожки, стриженые газоны, студенты с рюкзаками, торопящиеся куда-то по своим студенческим делам. Никто из них не знал. Никто из них даже не подозревал, что в этом кабинете на третьем этаже здания физического факультета только что изменилось понимание Вселенной.
«Громко сказано, – одёрнул он себя. – Претенциозно. Как в плохом научно-популярном фильме».
Но это было правдой.
Ковалёв вернулся к столу, заваленному распечатками, книгами и тремя пустыми чашками из-под чая. Чёрного, без сахара – единственный напиток, который он признавал. Кофе казался ему напитком нетерпеливых людей, а он никогда не торопился. Десять лет работы над одной проблемой – это не торопливость. Это одержимость особого рода, медленная и упорная, как движение ледника.
Он сел за компьютер и открыл файл с черновиком статьи. Сорок три страницы плотного текста, семьдесят два уравнения, четырнадцать графиков. Всё проверено. Всё безупречно. Осталось только нажать кнопку.
Но сначала – перечитать ещё раз.
«О статистической неизбежности самоосознающих вакуумных флуктуаций в космологических моделях с положительной космологической постоянной».
Название было ужасным. Ковалёв это знал. Но научные статьи не предназначены для того, чтобы развлекать читателя; они предназначены для того, чтобы быть точными. А это название было точным до тошноты.
Он пролистал до раздела «Основные результаты» и начал читать, хотя знал каждое слово наизусть.
«Теорема 4.7. В любой космологической модели, удовлетворяющей условиям (i)-(iv), вероятность спонтанного возникновения самоосознающей структуры из вакуумных флуктуаций за конечное время t стремится к единице при t → ∞».
Самоосознающая структура. Какой стерильный, какой безобидный термин для того, о чём на самом деле шла речь.
Больцмановские мозги.
Людвиг Больцман, венский физик XIX века, покончивший с собой в 1906 году – отчасти, как считали некоторые историки, из-за философских последствий собственных открытий. Он понял то, что многие предпочитали не понимать: если Вселенная достаточно велика и существует достаточно долго, в ней произойдёт всё, что может произойти. Включая вещи, которые не должны происходить с точки зрения здравого смысла.
Включая спонтанное возникновение разума из пустоты.
Статистическая механика не делала различий между «естественным» и «противоестественным». Для неё существовали только вероятности. А вероятность того, что случайная флуктуация в квантовом вакууме соберётся в конфигурацию, способную думать – пусть хотя бы одну мысль, пусть хотя бы на наносекунду – была не нулевой. И в бесконечности ненулевая вероятность означала неизбежность.
Ковалёв откинулся на спинку кресла и потёр глаза. Трое суток почти без сна – это сказывалось даже на нём, хотя он давно научился игнорировать усталость, когда работа требовала.
Проблема была в том, что он не просто доказал существование больцмановских мозгов. Это было сделано и до него, в разных формах, с разными оговорками. Нет, он сделал кое-что хуже.
Он доказал, что в современной космологической модели – той самой, которая лучше всего описывала наблюдаемую Вселенную – больцмановские структуры статистически доминировали над «настоящими» разумами. Над теми, кто возник в результате миллиардов лет эволюции, на планетах вокруг звёзд, в галактиках, образовавшихся из первичных флуктуаций после Большого взрыва.
На каждое существо вроде него, Дмитрия Ковалёва, с настоящей историей, настоящими воспоминаниями, настоящей жизнью – приходились триллионы триллионов триллионов… он сбивался со счёта, когда пытался назвать это число… существ, которые просто возникли из ничего. С ложными воспоминаниями. С иллюзией истории. С абсолютной уверенностью в собственной реальности.
И не было никакого способа узнать, к какой категории принадлежишь ты сам.
– Весёлая мысль перед сном, – сказал Ковалёв вслух и невесело усмехнулся.
Он встал и подошёл к маленькому электрическому чайнику в углу кабинета. Налил воду, включил, достал из ящика стола жестяную банку с чаем – настоящим, рассыпным, который присылала ему из Москвы двоюродная сестра два раза в год. Эти ритуалы успокаивали. Они создавали иллюзию нормальности, порядка, осмысленного течения времени.
«Иллюзию», – повторил он мысленно. Хорошее слово. Очень подходящее.
Пока чайник закипал, Ковалёв вернулся к доскам и начал фотографировать их на телефон. Привычка, выработанная годами: уборщица приходила по вторникам и четвергам, и однажды, в 2019 году, она стёрла три недели работы. С тех пор он документировал всё.
Камера телефона фиксировала символы, уравнения, стрелки. Мёртвые данные, лишённые контекста. Ковалёв подумал, что именно так, наверное, выглядит сознание больцмановского мозга – набор информации без истории, возникший из ниоткуда, обречённый исчезнуть через мгновение.
Чайник щёлкнул, оповещая о готовности. Ковалёв заварил чай, вернулся к столу, обхватил горячую чашку ладонями. За окном уже стемнело. Закат догорел, не оставив после себя ничего, кроме фиолетовой дымки на западе.
Он должен был отправить статью. Прямо сейчас. Сегодня пятница, редакция Physical Review Letters работала до восьми по восточному времени, значит, до пяти по калифорнийскому. Ещё час.
Но что-то удерживало его.
Ковалёв сделал глоток чая – слишком горячий, обжёг язык – и попытался понять, что именно.
Страх?
Нет. Он не боялся. Научное сообщество примет его работу или не примет; в любом случае математика останется математикой. Ошибка? Он проверял семнадцать раз. Ошибки не было.
Тогда что?
Он посмотрел на экран компьютера, на курсор, мигавший в конце последнего предложения раздела «Выводы»:
«Таким образом, любой наблюдатель, задающий вопрос о природе собственного существования, с подавляющей статистической вероятностью является продуктом вакуумной флуктуации, а не результатом космологической эволюции. Философские импликации данного результата выходят за рамки настоящей работы».
Философские импликации.
Три слова, за которыми скрывалась пропасть.
Ковалёв медленно допил чай, поставил чашку на стол и произнёс вслух – снова по-русски, потому что некоторые вещи невозможно было говорить на английском:
– Я, скорее всего, не существую. То есть существую, конечно, вот он я, пью чай, думаю мысли, но эти мысли – о вчерашнем дне, о прошлом годе, о Москве 1989-го – они, вероятно, никогда не происходили. Я возник секунду назад с полным набором ложных воспоминаний и исчезну через секунду, так и не узнав об этом.
Он замолчал.
Кабинет не ответил.
Разумеется, он не верил в это по-настоящему. Человеческий разум не приспособлен для того, чтобы верить в подобные вещи. Можно понимать их интеллектуально, можно доказать их математически – но верить, чувствовать их истинность? Невозможно. Эволюция не предусмотрела такой опции.
«Но если я больцмановский мозг, – подумал Ковалёв с мрачной иронией, – то никакая эволюция меня не формировала. Значит, мои ограничения – тоже иллюзия. Я мог бы быть устроен как угодно».
Он тряхнул головой, отгоняя эти мысли. Бессмысленные спирали, ведущие в никуда. Он был учёным, а не философом. Его дело – доказывать теоремы, а не переживать по их поводу.
Телефон на столе завибрировал, и Ковалёв вздрогнул.
Елена.
Имя на экране заставило его замереть. Бывшая жена звонила редко – раз в два-три месяца, обычно по поводам, которые она считала достаточно важными. День рождения. Годовщина смерти его матери. Иногда – без повода, просто чтобы проверить, жив ли он ещё.
Он взял трубку.
– Алло.
– Дима. – Её голос был таким же, как всегда: спокойный, чуть хрипловатый, с еле уловимым московским акцентом, который двадцать пять лет в Калифорнии так и не стёрли. – Не разбудила?
– В пять вечера?
– У тебя пять вечера? – Она помолчала. – Я была уверена, что уже ночь. Прости, у меня сбился график.
– Всё в порядке. Я работал.
– Я знаю. Ты всегда работаешь.
Это не было упрёком – по крайней мере, больше не было. Двенадцать лет назад, когда они разводились, эти слова звучали иначе. Сейчас они были просто констатацией факта, как «небо голубое» или «в Пасадене жарко».
– Почему ты звонишь, Лена? – спросил Ковалёв. Не грубо, просто прямо. Он не умел иначе, и она это знала.
– Марина сказала, что видела тебя в корпусе биологии три дня назад. Сказала, что ты выглядел как зомби.
Марина была аспиранткой Елены и по совместительству невольной шпионкой. Ковалёв никогда не мог понять, как так вышло, что его бывшая жена работала в UCLA, всего в часе езды, а они виделись реже, чем он виделся с коллегами из Токио.
– Три дня назад я не спал сорок часов, – сказал он. – Это было заметно.
– Дима…
– Я закончил.
Молчание на том конце линии. Потом:
– Теорию флуктуаций?
– Да.
Елена была нейробиологом, но она понимала достаточно физики, чтобы знать, над чем он работал. Она всегда понимала достаточно обо всём, что касалось его. В этом была одна из причин, почему он когда-то на ней женился.
– И что ты доказал?
– Что если современная космология верна – а у нас нет оснований думать, что она неверна – то подавляющее большинство наблюдателей во Вселенной являются вакуумными флуктуациями, а не продуктами эволюции.
– Больцмановские мозги.
– Не совсем мозги. Я называю их «больцмановские цивилизации». Структуры могут быть сколь угодно сложными – от одиночного сознания до целых галактик с миллиардами обитателей. Статистика не делает различий.
– И мы… – начала Елена.
– С вероятностью, неотличимой от единицы, мы – одна из таких флуктуаций. Да.
Снова молчание. Ковалёв слышал её дыхание в трубке – ровное, спокойное. Елена не была из тех, кто впадает в экзистенциальный кризис от абстрактных идей.
– Ты отправил статью?
– Собираюсь.
– Что тебя останавливает?
Ковалёв задумался. Хороший вопрос. Очень хороший вопрос.
– Не знаю, – признался он наконец. – Что-то… я не могу сформулировать.
– Ты боишься, что окажешься прав?
– Я знаю, что я прав. Математика не ошибается.
– Тогда ты боишься, что это изменит что-то?
– Что это может изменить? – Ковалёв невесело усмехнулся. – Люди не станут иначе завтракать из-за моей статьи. Не перестанут ходить на работу, влюбляться, растить детей. Это абстракция, Лена. Философская игрушка для тех, кому нечем заняться.
– Но ты сам в это не веришь.
Он промолчал.
– Дима, – сказала Елена после паузы, – ты помнишь, что ты мне сказал, когда мы познакомились? На той конференции в Беркли, в девяносто восьмом?
– Я сказал много глупостей в девяносто восьмом.
– Ты сказал, что физика – это способ задавать Вселенной вопросы, на которые она обязана ответить. Не может не ответить. Потому что ответы уже есть, они вшиты в структуру реальности, и наше дело – просто научиться их читать.
Ковалёв помнил. Он был молод тогда, тридцать один год, только что получил постоянную позицию в Caltech, и мир казался ему познаваемым. Полностью, до конца, без остатка.
– Я был наивен, – сказал он.
– Может быть. Но ты был прав. Ты задал вопрос, и Вселенная ответила. Тебе не нравится ответ – это другое дело.
– Дело не в том, нравится мне или нет…
– Дима. – Её голос стал мягче, и Ковалёв почувствовал то, что всегда чувствовал, когда она так говорила: смесь благодарности и боли. – Отправь статью. Пусть другие проверят. Пусть спорят, опровергают, находят ошибки – если они есть. Это то, что ты умеешь делать. Это то, ради чего ты живёшь.
– Ради чего я живу, – повторил он медленно. – Если я вообще живу в каком-то осмысленном смысле этого слова.
– Ты снова это делаешь.
– Что?
– Путаешь метафизику с реальностью. Неважно, возник ли ты из вакуумной флуктуации или из материнской утробы. Ты есть. Ты думаешь. Ты чувствуешь. Этого достаточно.
– Это не ответ, – сказал Ковалёв. – Это способ уклониться от ответа.
– Нет. Это единственный честный ответ, который у нас есть. Остальное – домыслы.
Он хотел возразить, но понял, что не может. Елена всегда умела это делать – ставить его в тупик не логикой, а чем-то другим. Перспективой, которую он сам не мог увидеть, потому что слишком глубоко зарылся в свои уравнения.
– Ты права, – сказал он наконец. – Наверное.
– Я знаю. – Он услышал улыбку в её голосе. – Отправляй статью и ложись спать. Ты не спал, сколько? Трое суток?
– Около того.
– Это безответственно даже для тебя.
– Сейчас отправлю и лягу.
– Обещаешь?
– Обещаю.
Они помолчали несколько секунд. Ковалёв понял, что не хочет вешать трубку. Голос Елены был единственным человеческим голосом, который он слышал за последние три дня, если не считать записей лекций на YouTube, которые он иногда включал как фоновый шум.
– Лена, – сказал он. – Спасибо, что позвонила.
– Всегда, – ответила она. И добавила, уже другим тоном, легче: – Ты всё ещё носишь тот серый пиджак с заплатами?
– А что с ним не так?
– Ничего. Просто он выглядел старым пятнадцать лет назад.
– Он удобный.
– Я знаю. – Она засмеялась – коротко, тепло. – Спокойной ночи, Дима. Береги себя.
– И ты.
Она повесила трубку.
Ковалёв сидел неподвижно ещё несколько минут, глядя на телефон в своей руке. Экран погас, отразив его лицо – худое, с глубоко посаженными светло-серыми глазами, с трёхдневной щетиной и седыми волосами, которые он забыл постричь (снова).
Пятьдесят два года. Больше половины жизни позади – если предположить, что он доживёт до среднестатистических восьмидесяти, что для мужчины его образа жизни было оптимистичной оценкой.
Он встал, прошёлся по кабинету, остановился у книжного шкафа. Здесь была его библиотека – или то, что от неё осталось после того, как всё остальное переехало в цифру. Собрание сочинений Ландау и Лифшица на русском – подарок отца к защите кандидатской, ещё в Москве, в другой жизни. Фейнмановские лекции на английском – первое издание, купленное на барахолке в Пасадене за двадцать долларов. Несколько монографий по космологии. И одна тонкая книга в потрёпанной обложке – «Лекции о газах» Людвига Больцмана, переизданные в 1964 году.
Ковалёв вытащил её с полки и открыл на случайной странице.
«Энтропия – это мера нашего незнания», – прочитал он вслух, переводя с немецкого.
Больцман понимал. За сто тридцать лет до Ковалёва он понимал, куда ведёт эта логика. И не смог с этим жить.
Ковалёв закрыл книгу и поставил её обратно на полку.
Он не собирался совершать ту же ошибку. Истина была истиной, независимо от того, насколько она комфортна. Его дело – открывать, а не страдать по поводу открытого. Страдания не входили в должностную инструкцию.
Он вернулся к компьютеру.
Письмо в редакцию Physical Review Letters было уже написано – стандартное, формальное, сухое. «Уважаемые коллеги, направляю вам для рассмотрения статью под названием…» Приложенный файл с манускриптом. Приложенный файл с сопроводительными материалами. Всё по протоколу.
Курсор мигал над кнопкой «Отправить».
Ковалёв посмотрел на доски с уравнениями, потом снова на экран.
– Десять лет, – сказал он вслух. – Десять лет работы, три диссертации, которые я так и не дописал, один развод… ладно, развод был бы в любом случае… и вот оно. Кнопка. Нажимаю и всё меняется. Не нажимаю – и ничего не меняется, кроме того, что я трус.
Он подумал о Больцмане. О верёвке в гостиничном номере в Дуино, на побережье Адриатики. О дочери, которая нашла тело.
О вопросах, на которые нельзя было не отвечать.
– К чёрту, – сказал Ковалёв и нажал кнопку.
Экран мигнул. Появилось окошко: «Ваше сообщение отправлено».
Вот и всё.
Он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Усталость накатила волной – внезапная, тяжёлая, непреодолимая. Три ночи без сна, литры чая, бесконечные уравнения, и теперь – пустота. Не облегчение, не торжество, не страх. Просто пустота.
За окном была уже настоящая ночь. Огни кампуса горели внизу – жёлтые, уютные, бессмысленные. Где-то играла музыка – наверное, в общежитии через дорогу. Студенты веселились, как веселились студенты во все времена, не подозревая, что мир только что стал немного страннее.
Или не стал. Мир не менялся от того, что кто-то что-то доказал. Он просто был – большой, сложный, равнодушный. И в нём, где-то в бесконечных далях пространства-времени, возникали и исчезали другие сознания, другие мысли, другие миры. Случайные флуктуации в термодинамическом равновесии.
Тени.
– Интересно, – пробормотал Ковалёв, не открывая глаз, – если я действительно возник из вакуума секунду назад, то я об этом никогда не узнаю. А если я «настоящий» – какой бы смысл мы ни вкладывали в это слово – то тоже никогда не узнаю. Результат один и тот же. Значит ли это, что вопрос бессмысленен?
Кабинет, как и раньше, не ответил.
Ковалёв встал, выключил компьютер, надел куртку поверх пиджака – ночи в Пасадене бывали прохладными – и вышел из кабинета. В коридоре было пусто и тихо. Его шаги гулко отдавались от стен, увешанных портретами великих физиков: Эйнштейн, Фейнман, Гелл-Манн. Все мёртвые. Все – возможно – никогда не существовавшие.
Он спустился по лестнице, вышел на улицу, вдохнул ночной воздух – тёплый, с привкусом цветущей жимолости и бензина. Нормальный вечер в нормальном городе на нормальной планете. Ничего не изменилось.
Ничего не должно было измениться.
Но пока Ковалёв шёл к своей машине на парковке, он не мог отделаться от странного ощущения. Как будто кто-то смотрел на него из пустоты. Не враждебно, не дружелюбно – просто смотрел. С интересом, может быть. Или с равнодушием.
Он остановился посреди пустой парковки и поднял голову к небу.
Звёзды были на своих местах. Тысячи, миллионы точек света, каждая – солнце, вокруг которого, возможно, вращались планеты, на которых, возможно, жили существа, задававшие те же вопросы. Или не жили. Или были флуктуациями, как и он сам.
– Эй, – сказал Ковалёв звёздам по-русски, чувствуя себя идиотом. – Вы там вообще настоящие?
Звёзды, разумеется, не ответили.
Он усмехнулся, сел в машину и поехал домой.
Квартира встретила его темнотой и тишиной. Ковалёв жил один уже двенадцать лет – если не считать кота, который умер три года назад, и которого он так и не решился заменить. Кот по имени Шрёдингер – да, он осознавал, насколько это было банально, но имя как-то прилипло – был подарком Елены на его сорокалетие. Теперь от него осталась только фотография на холодильнике и привычка покупать корм, от которой Ковалёв отвыкал до сих пор.
Он включил свет в прихожей, снял куртку, повесил на крючок. Прошёл на кухню, открыл холодильник – там было пусто, если не считать половины лимона неопределённого возраста и бутылки молока с истёкшим сроком годности. Нужно было сходить в магазин. Завтра. Или послезавтра.
Он налил себе стакан воды и сел за кухонный стол.
На столе лежал номер Scientific American месячной давности, который он так и не прочитал, и стопка счетов, которые он так и не оплатил (автоплатежи, к счастью, справлялись без его участия). Нормальный беспорядок нормальной жизни.
Ковалёв посмотрел на свои руки. Костлявые, с длинными пальцами, испачканные меловой пылью. Руки, которые написали уравнение, доказывавшее, что они, возможно, никогда не существовали.
– Парадокс Декарта, – сказал он вслух, просто чтобы услышать собственный голос. – «Я мыслю, следовательно, я существую». Но если моё мышление – иллюзия, созданная случайной флуктуацией, то что из этого следует? Что иллюзия существует? Это тавтология.
Он вспомнил семинар, который вёл в прошлом семестре. Один из студентов – умный парень из Китая, Вэй – спросил: «Профессор, если больцмановские мозги действительно доминируют статистически, означает ли это, что теория опровергает сама себя? Ведь если большинство наблюдателей – флуктуации, то и учёный, делающий расчёты, скорее всего, флуктуация. И его расчёты – просто случайные числа, не имеющие отношения к реальности».
Хороший вопрос. Очень хороший вопрос.
Ковалёв ответил тогда стандартным образом: проблема действительно существует и называется «мерой» в космологии – как правильно подсчитывать вероятности в бесконечной Вселенной. Разные методы подсчёта дают разные результаты, и выбор метода – во многом вопрос философии, а не математики.
Но это был уход от ответа. Он сам это понимал. Вэй это понимал. Все понимали.
Настоящий ответ был: мы не знаем. Возможно, не можем знать в принципе. И моя работа делает это «не знаем» ещё более острым, ещё более неизбежным.
Телефон снова завибрировал.
Ковалёв посмотрел на экран, ожидая увидеть имя Елены. Но это было сообщение от Лю Вэя – того самого аспиранта с семинара. Он теперь работал в лаборатории экспериментальной физики, занимался измерениями квантовых флуктуаций в вакуумных камерах. Толковый парень, хотя и слишком молчаливый.
«Профессор, у нас странные данные с калибровки. Шум не похож на шум. Можем поговорить завтра?»
Ковалёв набрал ответ:
«Завтра в 10. Мой кабинет».
Отправил. Подумал и добавил:
«Что значит "не похож на шум"?»
Ответ пришёл через минуту:
«Сложно объяснить в сообщении. Паттерн. Покажу завтра».
Ковалёв пожал плечами – мысленно, он редко пожимал плечами физически – и отложил телефон. Вэй всегда был склонен к драматизации. Наверняка какой-нибудь артефакт от оборудования, систематическая ошибка, которую они найдут и исправят за полчаса.
Он допил воду, выключил свет и пошёл в спальню.
Кровать была не застелена – как обычно. Ковалёв не видел смысла заправлять кровать, в которую собираешься лечь через несколько часов. Он разделся, бросил одежду на стул и лёг.
Потолок был белый и пустой. Он смотрел на него каждую ночь уже двенадцать лет.
– Теорема четыре точка семь, – прошептал он. – В любой космологической модели, удовлетворяющей условиям от один до четыре, вероятность спонтанного возникновения самоосознающей структуры…
Он не закончил. Сон накрыл его – внезапный, как обморок, глубокий, как колодец.
Ему ничего не снилось.
Или снилось, но он не запомнил.
Утро пришло с солнцем и звуком газонокосилки под окнами. Ковалёв открыл глаза, посмотрел на часы – девять утра, он проспал десять часов, чего не случалось уже много лет – и почувствовал странную лёгкость.
Статья была отправлена. Работа была завершена. Что бы ни случилось дальше – это уже не его забота.
Он встал, принял душ, заварил чай. Нашёл в шкафу относительно чистую рубашку и надел её вместо позавчерашней. Серый пиджак с заплатами, разумеется, остался на месте – Елена была права, он выглядел старым, но Ковалёв не представлял себя в чём-то другом.
В десять он был в кабинете.
Лю Вэй уже ждал под дверью – невысокий, коротко стриженный, с планшетом в руках и выражением сосредоточенного беспокойства на лице.