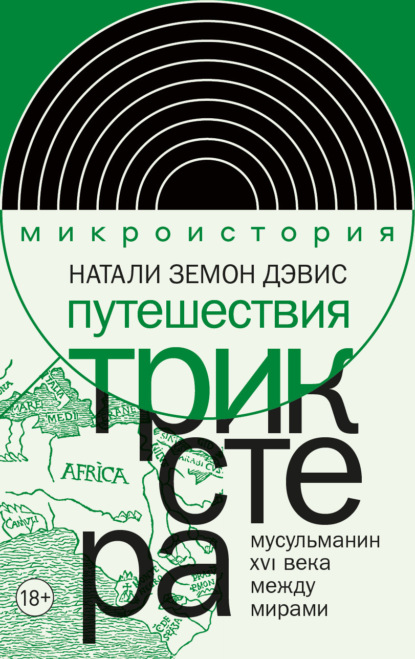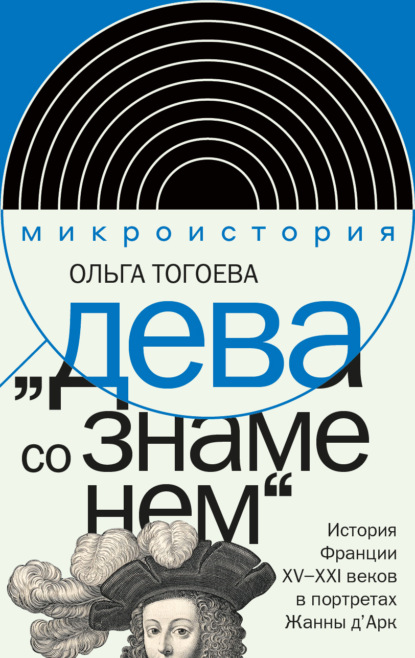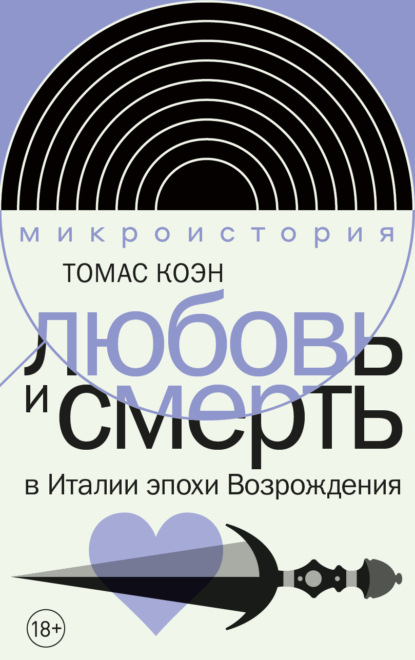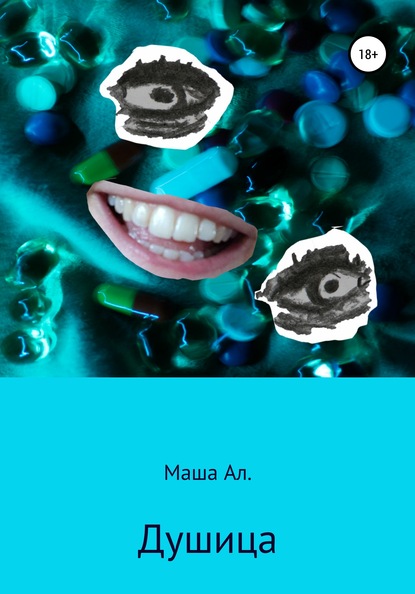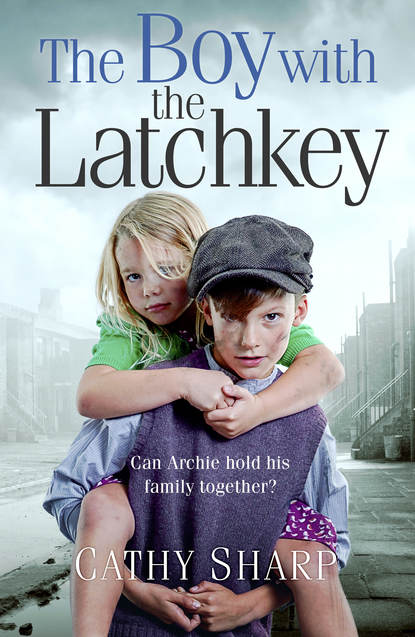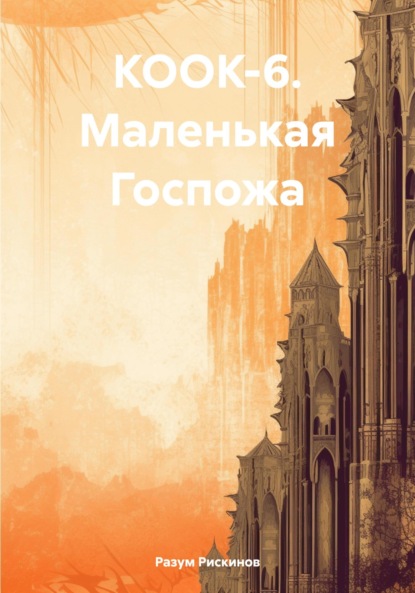Виги и охотники. Происхождение Черного акта 1723 года
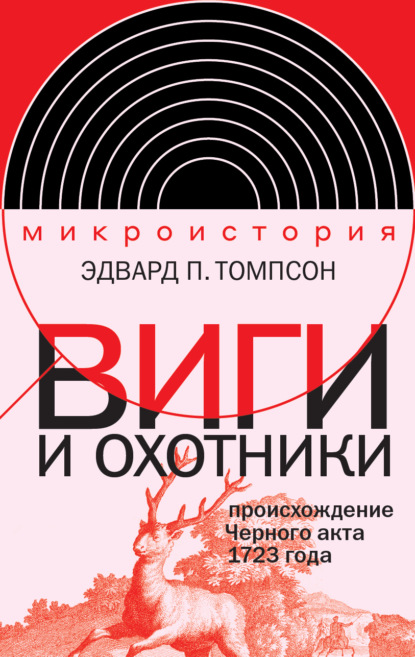
- -
- 100%
- +
Вустер, апрель 1975
Введение: Черный акт
Британское государство, по мнению всех законодателей XVIII века, существовало для того, чтобы охранять собственность, а также благополучие и привилегии ее владельцев. Но существуют разные способы защиты собственности, и в 1700 году она еще не была со всех сторон ограждена законами, которые карали смертью нарушителей. Тогда не считалось само собой разумеющимся, что законодательная власть должна на каждой сессии парламента вводить смертную казнь за всё новые и новые виды правонарушений. Правда, приметы такого развития событий появились еще в конце XVII века. Но, вероятно, ничто не могло с большим успехом приучить людей к подобному подходу со стороны государства, чем принятие при короле Георге I парламентского акта (9 George I c.22[23]), который стал известен как Закон об уолтхэмских Черных или просто как Черный акт. Закон был проведен через парламент в течение четырех недель мая 1723 года. Законопроект составили прокурор (атторней) и генеральные солиситоры по единогласному поручению палаты общин. Ни на одном этапе его принятия, по-видимому, не возникло дебатов или серьезных разногласий. Палата, готовая часами дискутировать по поводу единственного спорного избрания, сумела обрести единодушие, чтобы одним махом отнести примерно пятьдесят видов правонарушений к разряду караемых смертной казнью[24]. Первая категория преступников по этому акту – люди, «вооруженные шпагами, огнестрельным оружием или другим оружием нападения и с зачерненными лицами», появившиеся в любом лесу, в охотничьих угодьях, в парке или на огороженной территории, «где обычно содержатся или могут содержаться олени», или на любом участке, где водится мелкая дичь, а также на большой дороге, вересковой пустоши, пустыре или склоне…
Непрофессионалу, читающему данный закон, может показаться, что подобные люди должны быть виновны также в одном из разнообразных правонарушений, перечисленных далее. Но едва закон был принят, как его дополнили серией судебных решений, в результате чего появление с оружием и/или использование маскировки само по себе стало считаться преступлением, караемым смертной казнью[25]. Основную группу правонарушений составляла охота, ранение или похищение благородного оленя или лани, а также браконьерская добыча зайцев, кроликов и рыбы. За них полагалась смертная казнь, если нарушители были вооружены и скрывали лица, а в случае с оленями – если преступления совершались в любом из королевских лесов, независимо от того, были ли преступники вооружены и замаскированы или нет. Другие правонарушения включали в себя: разрушение запруды или насыпи рыбного пруда, злонамеренное убийство или нанесение увечий скоту, вырубку деревьев, «посаженных на аллее или растущих в парке, фруктовом саду или в лесопосадке», поджог дома, сарая, стога сена и т. д., умышленную стрельбу в любого человека, рассылку анонимных писем с требованием «денег, битой дичи или других ценностей», а также освобождение силой из-под стражи любого, кто был обвинен в каком-либо из названных преступлений. Кроме того, существовало положение, согласно которому если человек обвинялся в одном из этих преступлений на основании показаний заслуживающих доверия свидетелей, представленных в Тайный совет, то Тайный совет издавал прокламацию[26], обязывающую преступника сдаться властям, а иначе, в случае задержания, его признавали виновным и приговаривали к смертной казни без дальнейшего судебного разбирательства. Существовали некоторые другие положения, призванные ускорить судопроизводство, которые превалировали над обычной процедурой и доводами защиты. Обвиняемый мог предстать перед судом в любом графстве Англии, а не только в том графстве, где было совершено преступление. Кроме того, на округ, в котором было совершено преступление, возлагалась коллективная ответственность за возмещение ущерба, причиненного каким-либо из названных преступлений, посредством специального сбора со всех жителей. Некоторые из этих правонарушений, конечно, и раньше считались уголовно наказуемыми деяниями. Но даже если так происходило, например, в случае поджога, то определение в Черном акте было значительно шире. Как отмечал сэр Леон Радзинович, «вряд ли найдется преступное деяние, которое не подпадало бы под положения Черного акта; преступления против общественного порядка, против отправления уголовного правосудия, против собственности, против личности, умышленный ущерб имуществу различной степени тяжести – все подлежало действию этого закона и все каралось смертью. Такой закон сам по себе представлял собой полный и чрезвычайно суровый уголовный кодекс…»[27]. В своем всестороннем и вдумчивом исследовании Черного акта он описал больше пятидесяти отдельных преступлений, за которые полагалась смертная казнь. Еще более строгая детализация, основанная на учете различных категорий лиц, совершивших каждое преступление (вооруженные или замаскированные, исполнители преступления первой или второй степени, пособники и т. д.), дает в общей сложности от 200 до 250 преступных деяний[28]. Более того, Черный акт был составлен настолько расплывчато, что стал питательной средой для постоянно плодившихся судебных решений.
Хотя XVIII век имеет репутацию эпохи юридической точности, кажется маловероятным, что какой-либо юрист начала XVII века, воспитанный в школе сэра Эдварда Кока, с его глубоким уважением к свободам субъекта, допустил бы включение в правовые своды так скверно составленного статута. Этот поразительный закон заставил удивиться нашего самого выдающегося историка уголовного права, писавшего: «Весьма сомнительно, чтобы в какой-либо другой стране существовал уголовный кодекс с таким количеством положений, предусматривающих смертную казнь, как в этом единственном законе»[29]. Если в предыдущие десятилетия можно было отметить тенденцию применения смертной казни к отдельным новым видам преступлений, то Черный акт, принятый в том самом 1723 году, когда окончательно установилось политическое господство Уолпола[30], ознаменовал собой начало истинного половодья карательного правосудия в XVIII веке. Принятие Черного акта говорит не только о некотором сдвиге в подходах законодателей, но, возможно, и о некоем соответствии между господством вигов – приверженцев Ганноверской династии – и господством виселицы. Обычно не вызывает сомнений, что Черный акт был принят под давлением какой-то непреодолимой чрезвычайной ситуации. Изначально он должен был действовать всего три года, хотя на самом деле его действие раз за разом возобновлялось, причем с новыми дополнениями[31].
Для историка У. Леки «черные» браконьеры были «бандой похитителей оленей… столь многочисленной и столь дерзкой, что для их подавления был признан необходимым специальный, и самый кровавый, закон…»[32]. В дальнейшем историки почти не продвинулись в этом вопросе: если закон был принят, то можно предполагать, что принять его было «необходимо»[33]. Даже Радзинович, историк, изучивший его положения с величайшей тщательностью, находит, что это была «исключительная мера… вызванная к жизни внезапной чрезвычайной и породившей сильный страх ситуацией»[34]. Возможно, так оно и было. Но «внезапная чрезвычайная ситуация», дата которой толком не запомнилась[35] и которая оставила так мало следов в прессе того времени[36], является недоказуемой, хотя и утешительной гипотезой. Во всяком случае, перед нами стоит вопрос, который необходимо изучить подробнее. И это явилось поводом для настоящего исследования. Я поставил перед собой задачу ответить с помощью источников (которые, впрочем, часто не удовлетворяют ученого) на следующие вопросы. Что послужило причиной принятия этого закона? Кто такие уолтхэмские «черные» браконьеры? Способствовало ли прохождению закона какое-либо определенное лобби с особыми интересами или он может рассматриваться просто как правительственный акт? На какие должностные лица и органы юстиции возлагалось его исполнение после принятия и как он занял свое место в составе законодательства XVIII века? И почему законодатели 1723 года с такой легкостью написали этот закон кровью?
Часть 1. Виндзор
1. Виндзорский лес
Можно с уверенностью утверждать, что в 1723 году в масштабах страны не существовало никакой «чрезвычайной ситуации», связанной с «черными» браконьерами. Однако отмечались некоторые беспорядки на местном уровне. Они происходили в двух районах – в Виндзорском лесу и в нескольких лесных округах на востоке и юго-востоке Хэмпшира. Отметим, что прозвище так называемых уолтхэмских «черных» происходит не от Уолтхэмского леса в Эссексе, а от охотничьих угодий Уолтхэм Чейз близ городка Бишопс Уолтхэм в графстве Хэмпшир. Первое официальное упоминание о какой-либо деятельности «черных» браконьеров появилось в марте 1720 года в воззвании властей, гласившем, что отныне запрещается охотиться в Виндзорском лесу по ночам в замаскированном виде. Далее говорилось, что четырнадцать всадников с ружьями и с ними двое пеших охотников с борзой собакой под вечер охотились на благородных оленей, зачернив лица и нарядившись «в соломенные шляпы и в иные несуразные одеяния». Они убили четырех оленей и угрожали леснику[37]. Три года спустя, в феврале 1723 года, последовало новое и более сенсационное воззвание. Оно гласило, что в графствах Беркшир и Хэмпшир «многочисленные буйные и злонамеренные лица» объединились под именем «черных». Они вторгаются с оружием в леса и парки, убивают оленей и уносят их туши, отбивают правонарушителей из рук констеблей, рассылают джентльменам письма с угрозами, в которых требуют дичи и денег и грозят убийством и поджогом домов, амбаров и стогов сена. «Черные» нападали на людей, «стреляли в них прямо в домах, калечили их лошадей и крупный рогатый скот, ломали ворота и заборы, вырубали аллеи, посадки, разрушали плотины рыбных прудов и крали из них рыбу…»[38].
Такие беспорядки распространялись только в лесных местностях, а также в частных поместьях с оленьими парками и рыбными прудами. В управлении лесами Беркшира и Хэмпшира имелись существенные различия, так же как и в характере беспорядков в этих двух графствах, а поэтому удобнее всего будет рассматривать их по отдельности.
В начале XVIII века от центра Лондона до Виндзорского замка можно было доехать в быстром экипаже всего за два с половиной часа. Летом королева Анна часто переезжала с двором в Виндзор, и Тайный совет спешил сюда по делам. Георг I, когда не пребывал в Ганновере, предпочитал летом выезжать на отдых в Хэмптон Корт или в Ричмонд (где в изобилии водились олени), но иногда тоже бывал в Виндзоре[39]. В период его правления в пейзажах Виндзорского леса и в образе жизни людей в нем наблюдались разительные контрасты. Сам Виндзор с ближайшими окрестностями в роли летней резиденции двора предлагал все прелести цивилизации. В садах фешенебельных «вилл» на берегу Темзы росли абрикосы и персики[40]; знатные придворные, такие как граф Ранелаг и герцог Сент-Олбанс, располагали роскошными резиденциями, откуда можно было быстро доехать до королевского замка. А в нескольких милях лежал Бэгшот Хит, печально известное прибежище разбойников с большой дороги:
Изготовившись к бою, мы пересекаем Бэгшот Хит,Где продувшиеся картежники часто восполняют свой проигрыш, —так писал Джон Гэй в 1715 году, и в 1723-м дела обстояли не лучше[41]. Даниель Дефо тогда же описывал Бэгшот Хит как место «…не только неплодородное, но даже совершенно бесплодное, преданное запустению, ужасное и устрашающее на вид, не только малопригодное, но и ни на что не годное; бо́льшая часть его представляет собой песчаную пустыню, так что нередко здесь приходит на ум Аравия Пустынная…»[42].
Сам Виндзорский лес имел более тридцати миль в окружности и занимал около ста тысяч акров, а кроме того, на его окраинах находилось несколько участков королевских лесных угодий, переданных в частное владение (так называемых «пёрлью»: дословно «земель, примыкающих к королевскому лесу». – Прим. ред.), которые в некоторых отношениях также подлежали действию лесного права[43]. Часть этого леса составляли парковые угодья и широко разбросанные могучие дубы, его пересекали прямые дорожки. В лесу встречались огороженные пашни и луга, а другие участки были покрыты густым перелеском, кустарником и папоротником в человеческий рост, где олени могли спрятаться или уйти от погони с собаками; а еще там расстилались вересковые пустоши, на окраинах которых жили незаконные поселенцы. Фактический статус леса сложился так, а не иначе в силу различного юридического и административного подчинения его частей, а не какого-либо единообразного экономического устройства. Короне принадлежал Малый парк Виндзора, свыше трех миль в окружности, и Большой парк Виндзора, который, как узнал Дефо, достигал четырнадцати миль в окружности[44]. Но из пятнадцати с лишним крупных поместий в этом лесу короне принадлежали только Брэй и Кукхэм, а также частично – Новый и Старый Виндзор. Другие помещичьи усадьбы и бо́льшая часть их земель оставались в частных руках.
Неподготовленному глазу лес кажется просто девственной территорией – это пространство древесной растительности и вересковых пустошей, оставленное в «диком» состоянии, где лесные звери, в том числе олени, могут бегать как хотят. Но у леса своя сложная экономика; и там, где появлялось много лесных поселений, возникала труднорегулируемая конкуренция между потребностями благородных оленей и ланей, мелкой дичи или, с другой стороны, свиней, крупного рогатого скота, овец, а также нуждой людей в древесине, дровах и в перемещении по лесу.
В теории олени не только составляли «главную прелесть и красу леса»[45]; не менее важно, что экономика их содержания превосходила все другие нужды, поскольку особой функцией этого королевского леса было предоставлять Его Величеству отдых от государственных забот. Такое назначение было закреплено законом, на него ссылались королевские чиновники[46], и оно прославлялось в литературной традиции:
Здесь я видел короля, отринувшего великие делаИ отбросившего заботы,Сопровождаемого на охоте всем цветомЮности…[47]Королева Анна так и поступала на практике, хотя и с меньшей пышностью: как сообщал Свифт в 1711 году, она «охотится в легком экипаже с одной лошадью, которой правит сама, и носится неистово, как библейский Ииуй, будучи могучей охотницей, подобной Нимроду»[48].
Королевская добыча, однако, не множилась в изобилии и не плодилась сама собой. Оленям требуются обширные кормовые угодья, как с травой, так и с листвой кустарников и нижних веток деревьев («на высоту рогов»). Вкус у них утонченный, но при этом разнообразный: они особенно любят молодые побеги зерновых и овощных культур, зимой кору молодых деревьев и иногда перепадающие им лакомства, такие как яблоки. Царственный благородный олень и обыкновенная лань (оба эти вида водились в Виндзоре) уживаются вместе не лучше, чем рыжая и серая белки. Благородные олени и лани, как правило, держались на расстоянии друг от друга и нуждались в этом расстоянии, чтобы прокормиться. Мирно соседствуя с коровами, оба вида напрямую соперничали с овцами и лошадьми, которые, как и олени, выщипывают траву под корень. Серьезная конкуренция с овцами могла выгнать оленей из леса на соседние обрабатываемые земли, и очень редко деревянные заборы или ограды могли долго сдерживать их. Зимой их корм дополнялся сеном, древесными побегами («сучки и вершки, или нежные молодые ветки и верхушки деревьев», ветви падуба и т. д.), которые лесники срезали и оставляли лежать на земле, чтобы олени могли объедать с них листья и кору. В середине лета оленям требовалось, чтобы их не беспокоили, пока самки рождают потомство, а в «месяце запрета на охоту»[49] обширные участки леса, с ограждениями или без них, должны были оставаться совершенно неприкосновенными. Кроме того, некоторые излюбленные места обитания оленей отводились под «заповедные территории» круглый год; а поскольку сами олени могли нанести почти такой же вред, как и козы, другому важному элементу лесной экономики – деревьям, то молодые рощи и новые лесопосадки часто приходилось ограждать как от оленей, так и от мелкого рогатого скота, пока деревья не вырастали достаточно большими, чтобы пасущиеся животные не наносили им непоправимого ущерба.
Однако этим королевские права на лес ни в коем случае не ограничивались. В попытке узаконить перечисленные требования Натаниэль Бут, председатель Виндзорского суда Суанимота, в сентябре 1717 года представил суду подробный наказ, который он в дальнейшем опубликовал в противовес «брани и невежеству тех людей, которые осуждают лесное законодательство». В этом наказе, в котором Бут сетовал на «открытое уничтожение» растительности и дичи, уделялось особое внимание положению жителей лесных окраин. Хотя олени, выходя из леса, «теряют часть своей прежней свободы, все же ожидается, что они вернутся обратно». «Большинство людей считают своим оленя, встреченного вне пределов леса, но это большая ошибка» – в самом деле, в пределах участков «пёрлью» их можно было добывать только на строгих условиях: никто не мог охотиться (а) в «день субботний»[50], (б) до восхода и после заката солнца, (в) во время «месяца запрета охоты», (г) чаще, чем трижды в неделю, (д) беря с собой кого-то, кроме своих домашних слуг, (е) дальше, чем простираются его владения, (ж) если его земли приносят меньше 40 шиллингов в год, (з) в течение сорока дней до или после королевской охоты (в пределах семи миль от леса), (и) позволяя своей собаке преследовать оленя, убегающего обратно в лес: «стоя на месте, охотник должен отозвать собаку и протрубить в рог, а если его собака убьет оленя, то все же он не может забрать его, если только собака не схватит зверя в „пёрлью“, а животное своей силой затащит ее в лес». Однако этот подвиг вряд ли могла совершить по-настоящему законопослушная и верноподданная собака, поскольку жителям лесных окраин разрешалось держать охотничьих собак только в том случае, если те были «узаконены», то есть с отрубленными тремя передними когтями, а это наносило собаке настолько серьезное увечье, что она не могла преследовать оленей. Жителям окраинных земель (как, конечно, и живущим в самом лесу) было запрещено иметь луки, капканы, ловушки, ружья, сети, силки…[51]
В наказе Бута полностью излагаются права короны. Они, конечно, выглядят довольно причудливо и архаично: так, в 1717 году собак, вероятно, уже не «узаконивали» (хотя охотящихся собак, пойманных лесниками, безусловно, уничтожали), а обиходное толкование закона в части, касающейся лесных окраин, было не столь детально разработанным[52]. Но в пределах собственно леса в требованиях короны не было ничего архаичного. Все подчинялось экономике содержания оленей. В тех возделанных оазисах, которыми так восхищался Поуп, видя «…там дальше плодородные поля, средь пустоши угрюмой острова, где высятся хлеба и дерева…»[53], не разрешалось устанавливать слишком высокие ограды, мешающие оленям проходить к обычным местам кормления. Независимо от того, находилась земля в частной собственности или нет, никакие деревья нельзя было рубить без разрешения лесных властей. Запрещалось добывать торф и резать дерн на заповедных землях (кто бы ими ни владел). Убивать оленей нельзя было ни под каким предлогом.
По крайней мере, так считалось в теории. На практике дело обстояло сложнее. Споры из-за прав и притязаний испокон веков сопровождали жизнь в лесу. С одной стороны, знать и местное дворянство издавна по кусочку отгрызали земельные владения и продолжали это делать: здесь – маленький частный парк с оленями, там – пруд с правом частной рыбной ловли, тут – исключительное право на поместную землю. Иногда такие притязания основывались на пожалованиях или иных доказательствах благосклонности прежних монархов[54]. С другой стороны, арендаторы поместий по манориальному обычаю при каждом удобном случае выдвигали свои собственные претензии на неограниченный выпас скота, заготовку древесины и торфа на общинных участках[55]. И наконец, в лесу существовала проблема незаконных поселенцев и приезжих, не имеющих никаких официальных прав, но претендующих на то же, чем обладают соседи. Весьма вероятно, что в первые десятилетия XVIII века население леса увеличивалось, и до этого оно также росло в течение почти ста лет. Сколько-нибудь надежных цифр не существует, приходится довольствоваться косвенными данными. В 1640 году петиция большого жюри Беркшира гласила, что «свободные люди» вынуждены из страха перед вербовщиками покидать свои дома и скрываться в лесах[56]. Некоторые, возможно, там и остались. Другие (в основном старые солдаты Кромвеля) могли поселиться в лесу, когда при Английской республике Большой парк Виндзора был разделен примерно на тридцать ферм; но их права аренды, конечно, не пережили Реставрацию[57]. Явно выросло население северо-восточных районов леса, вокруг Мейденхеда, Брэя, Кукхэма и Виндзора, где особенно густо расселилось дворянство со своей прислугой и различными службами[58]. Но из «Судебных книг вердереров» (судебных чиновников, обеспечивающих закон и порядок в королевских лесах) явствует, что незаконные поселения и мелкие огораживания непрерывно продолжались также и в глубине леса: только в 1687 году касательно одного лесного массива, Беарвуд, были поданы исковые заявления за незаконное поселение примерно на «шесть или восемь десятков» крестьян[59]. Другие лесные приходы, при растущем налоге в пользу бедных, отчаянно пытались не допустить появления новых поселенцев[60]. Численность жителей лесных районов (несколько уменьшившихся по площади) в 1801 году оценивалась в 17 409 человек[61]. Сопоставимых цифр за 1720-е годы не существует, но, как бы то ни было, можно сравнить цифры по отдельным лесным приходам в «Комптонской» переписи прихожан 1676 года с данными переписи 1801-го, чтобы отметить тенденцию к росту[62].
Население Виндзорского леса: отдельные приходы

Чтобы принудить это растущее население соблюдать лесное законодательство, существовала внушительная система должностей, хотя, как было принято в XVIII веке, высшие чины в основном занимали теплые места, не обременяя себя усердным трудом. Высшим должностным лицом после короля был констебль и комендант Виндзорского замка[63], большинство обязанностей которого выполнял его заместитель. С июня 1717 года пост заместителя констебля занимал полковник Фрэнсис Негус, очень влиятельный царедворец, который служил в этом качестве на протяжении всего эпизода с «черными» браконьерами[64]. Ему подчинялись главный лесничий и лесной объездчик, а ниже следовала дальнейшая иерархия титулярных и фактических должностей. Над каждым лесным массивом (Старый Виндзор, Нью Лодж, Истхэмпстед, Суинли, Бигшот Рейлз, Биллингбер, Беарвуд и т. д.) стоял титулованный аристократ или дворянин-землевладелец в качестве номинального «мастера», «уордена», «рейнджера» или «бейлифа» (начальника, хранителя, смотрителя или судебного пристава) с жалованьем, льготами на дрова и дичь и с правом пользования соответствующей охотничьей резиденцией[65]. Так, Сара, герцогиня Мальборо, получила (благодаря былому фавору у королевы Анны) пост рейнджера Большого и Малого парков Виндзора. В отличие от большинства других, герцогиня была деятельным и шумным рейнджером; даже оказавшись вне привычной для себя стихии и лишившись королевской благосклонности и политического влияния, она оставалась слишком значительной фигурой, и сам Уолпол не мог ее обуздать. Десятилетиями она, подобно огромному существу-амфибии, била хвостом среди придворных в Виндзоре и доставляла столько неприятностей, сколько могла. «Черным» браконьерам, несомненно, нравилось это зрелище, и, похоже, они ее не трогали.
Фактическую службу в лесу несли тринадцать или четырнадцать младших смотрителей-лесников, четыре егеря, егерь по отстрелу хищников и их штат. (Существовала также параллельная структура королевских егерей, укомплектованная частью того же персонала: главный выжлятник, ведавший гончими-бакхаундами, главный ловчий, йомены-загонщики и слуги.) На этих должностях выплачивалось очень небольшое жалованье: лесникам платили всего 20 фунтов стерлингов в год, и если бы оно не дополнялось из других источников, то вряд ли могло бы обеспечить средства к существованию[66]. Но на деле лучшие должности щедро дополнялись льготами. Некоторые из них оговаривались официально, такие как использование положенных по штату подсобных помещений, норма сена для оленей, шкала оплаты за каждого законно убитого оленя – самца или самку, использование старых столбов от ограждений на топливо и т. д.; другие льготы не были прямо сформулированы, но прекрасно понятны и санкционированы обычаем, например отбраковка для собственного использования случайных («раненых») оленей, довольно свободное распоряжение древесиной, мелкой дичью и пастбищами; третий вид льгот являлся плодом традиционной коррупции (тайная торговля олениной в свою пользу, получение взяток от браконьеров в качестве платы за молчание)[67]. Не удовлетворяясь этим, высокопоставленные чиновники стремились к совмещению должностей, стараясь сосредоточить в руках несколько постов, и использовали свое влияние в лесных судах, чтобы добиться для себя дополнительных льгот.