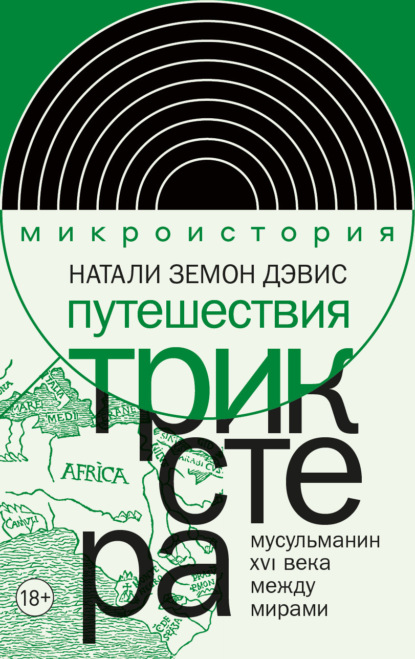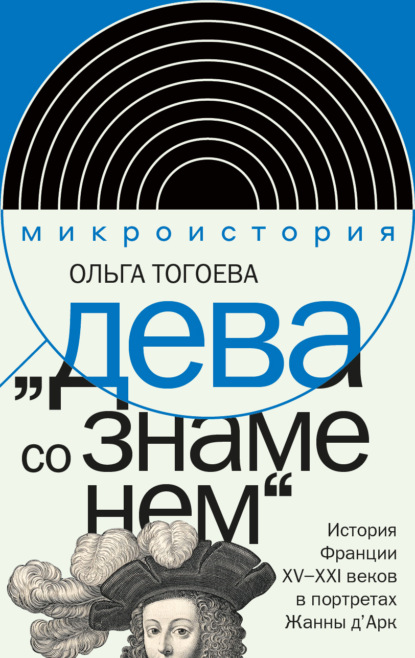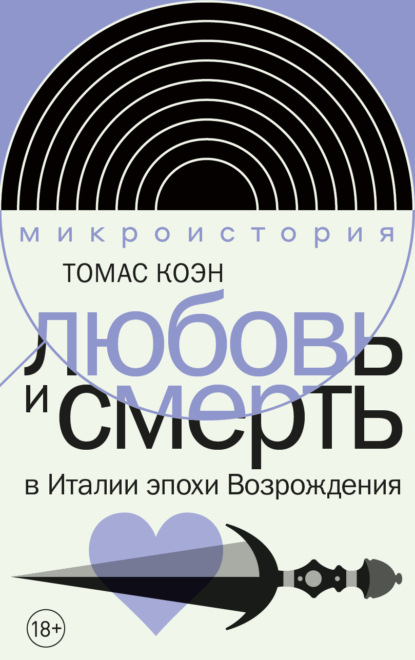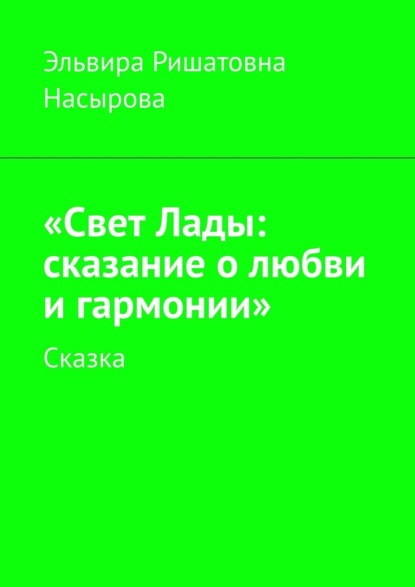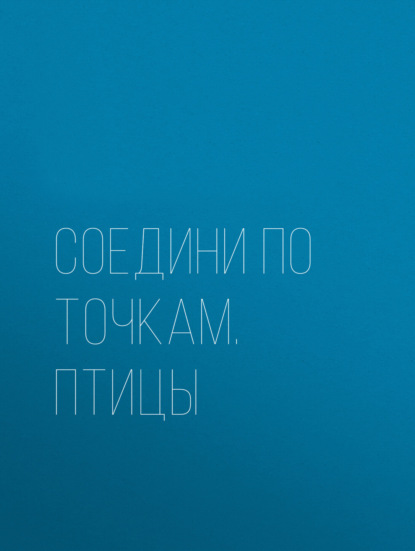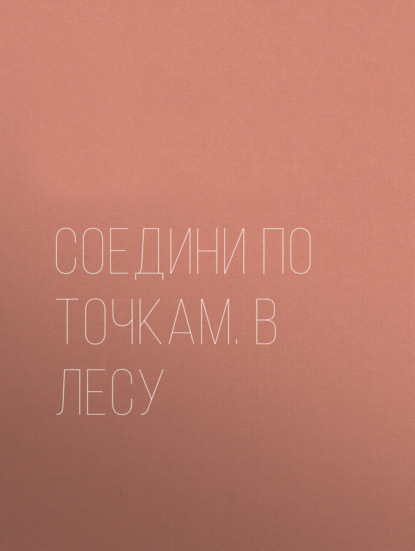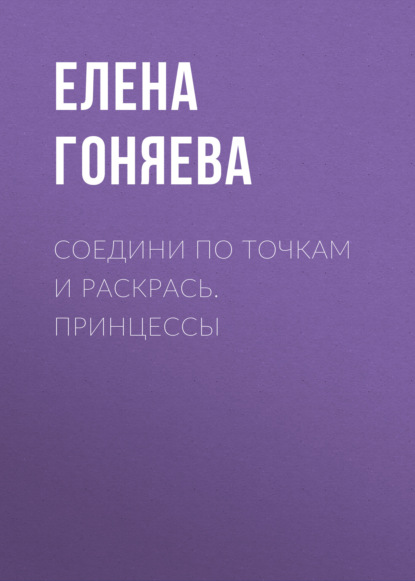Виги и охотники. Происхождение Черного акта 1723 года
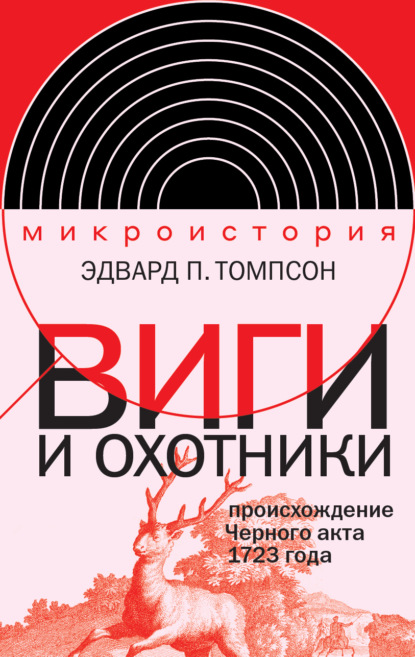
- -
- 100%
- +
Такова была исполнительная власть. Но ее чиновники находились в сложном положении, поскольку они действовали частично в рамках лесного законодательства, а частично в рамках статутного права. Два выездных судьи (один к северу, другой к югу от реки Трент) имели полномочия отправлять лесное правосудие. Тонкости этого законодательства различались от леса к лесу, но во всяком случае ясно, что оно не было настолько неэффективным, как полагали некоторые авторитетные правоведы[68]. В Виндзоре на правонарушителей сначала можно было пожаловаться в суд по наложению ареста, или Сорокадневный суд[69], а затем (если жалобу признавали обоснованной) дело передавалось в суд Суанимота (или Суэйнмота), который заседал нечасто, либо в Виндзоре, либо в Уокингеме[70]. Суд Суанимота состоял из председателя – королевского стюарда, четверых вердереров (избираемых, как и члены администрации графства, полноправными гражданами) и двенадцати или более регардеров (лесных смотрителей, надзирателей), назначаемых от разных районов леса[71]. Суд имел полномочия выносить обвинительные приговоры и налагать штраф, но он оставался лишь судом по наложению ареста; его приговоры не подлежали исполнению до тех пор, пока их не заверят печатью вердереров и присяжных. После этого они рассматривались в заседании суда под председательством главного судьи выездного суда. Однако ни один такой выездной судья фактически не заседал в лесу со времен правления Карла I; следовательно, ни один преступник не был официально осужден в течение почти ста лет[72].
Управление Виндзорским лесом, около 1723 года

* Здесь и далее под выездным судом будет пониматься преимущественно то, что по-английски обозначается «Justice in Eyre» (второе существительное восходит к старофранцузскому erre, а то, в свою очередь, к латинскому iter – путь, дорога, поездка). При переводе названия такого выездного суда на русский язык как «суд Эйра», что иногда встречается в отечественной историографии, есть риск прочтения слова «Эйр» в качестве имени собственного, каковым оно не является. Другие виды выездных судов (ассизы, суды квартальных сессий) будут обозначены в тексте особо. – Прим. ред.
Такова была система должностей, связанных с управлением лесами. Но жители лесных районов могли, кроме того, подчиняться местной власти своего лорда-владельца поместья и его манориального суда, и, конечно, юрисдикции мировых судей, существовавшей независимо от всех этих ветвей власти.
Генеральный инспектор лесов ведал только вопросами, касающимися лесоводства, возобновления посадок и т. п. Но лорды-комиссары Казначейства совали нос во все дела, контролируя все жалованья, судебные расходы, перестройку охотничьих домиков и др. А солиситор Казначейства участвовал во всех крупных судебных процессах.
Ветви власти могли пересекаться (или объединяться) благодаря совмещению должностей в одних руках: так, Уилл Лоруэн, главный егерь, состоял также помощником лесничего Нью Лодж Уок, в то время как Бэптист Нанн был заместителем судьи лесных судов и главным егерем, охраняющим дичь от браконьеров, к каковым постам он прибавил должность помощника лесничего Линчфорд Уок и должность привратника и хранителя въездных ворот Виндзорского замка (в котором имелась еще одна, отдельная чиновничья структура).
В этих обстоятельствах легко подсмеиваться над лесными судами как над отжившими памятниками старины, сохраняемыми исключительно для того, чтобы служить оправданием некоторым бездельникам – обладателям синекур[73]. В 1809 году парламентские комиссары сочли, что от решений суда Суанимота «легко уклониться, как от „узаконенной“ собаки, слишком изувеченной, чтобы ловить дичь»[74]. Но если речь идет о начале XVIII века, то такое толкование фактов ошибочно. На деле суды все же располагали тогда определенными полномочиями, и если их было недостаточно, чтобы остановить богатого преступника, то, безусловно, хватало на то, чтобы доставить неприятности беднякам. Во-первых, суд мог арестовать самих правонарушителей, если тех ловили с поличным (в замке имелась темница или «угольная яма», где их могли держать), либо их имущество, в ожидании освобождения под залог или заседания Суанимота[75]. Во-вторых, лесные должностные лица имели полномочия на конфискацию в упрощенном порядке оружия и силков, собак и незаконно добытых партий лесоматериалов или торфа. В-третьих, преступников, признанных виновными судом Суанимота, могли обязать явиться на следующее заседание выездного суда, внеся залог, который, однако, был слишком высок для бедняка[76]. В конце концов – и, возможно, в силу последнего обстоятельства – у судов явно вошло в обычай принимать штраф «по компромиссному соглашению», тем самым отказываясь как от совершенно безнадежного ожидания акта правосудия со стороны именно выездного суда, так и от залогов, которые в противном случае подсудимым пришлось бы где-то добывать[77]. Весьма вероятно, что такое компромиссное соглашение при мелких правонарушениях оценивалось примерно в 5 фунтов стерлингов[78].
Этот вопрос в истории права остается неясным, потому что крупный правонарушитель – джентльмен или состоятельный йомен, который огораживал свои земли, перекрывая проходы оленям, и заготавливал лес оптом без разрешения, – мог легко позволить себе заплатить залог, а затем безнаказанно продолжать свои противозаконные действия. Против таких нарушителей корона пыталась принимать меры, подвергая их гораздо более дорогостоящей процедуре официального обвинения в совершении преступления в суде Казначейства. Мелкие правонарушители, находящиеся под бдительным оком лесных властей и зависящие от них в деле получения лицензий и других льгот, едва ли могли отважиться на такое неповиновение; и даже если выездной суд никогда не заседал, он был вправе посылать к нарушителям судебных исполнителей, «которые устраивают им такие преследования и неприятности, что люди не осмеливаются нарушить приказ»[79].
То было последним свидетельством деятельности выездного суда. Но, в истинном стиле XVIII века, должность выездного судьи оставалась источником привилегий и льгот, даже если функции суда прекратились. Эти бонусы включали в себя право выдавать (но фактически продавать[80]) лицензии на охоту в королевских лесах на всю дичь, кроме оленей[81]. Выездной судья также мог каждый год забирать некоторое количество оленей для собственного использования, и у него была власть выдавать (или продавать) ордера и лицензии на вырубку деревьев и на огораживание или строительство в лесу[82]. В остальном обязанности выездного судьи, по-видимому, сводились к периодической рассылке воззваний из Лондона и к получению жалованья в размере 1500 фунтов стерлингов. Должность обычно доставалась не юристу, а царедворцу, и главный выездной судья (по словам одного наблюдателя) «обычно являлся должностным лицом, обладающим более знатностью, чем знанием законов леса»[83].
Таким образом, суд Суанимота функционировал как местный лесной суд со своими собственными судьями (вердерерами), большим жюри (из регардеров) и малым жюри (из фригольдеров). Не следует, однако, полагать, что суд служил совершенно послушным инструментом королевской власти. Позднее бюрократы-прагматики могли усматривать в нем беззубый пережиток прошлого, но на самом деле это был исчезающий отголосок такого устройства вещей, которое было одновременно и более функционально, и более демократично, чем любое из их собственных творений. Суд Суанимота стремился обеспечить равновесие в лесной экономике путем согласования интересов короля, крупных землевладельцев и дворянства, а также крупных фригольдеров, фермеров-арендаторов и йоменов-лесовиков. Регардеров избирали из числа наиболее состоятельных фермеров[84]. На каждых выборах рыцарей графства и вердереров (жаловался полковник Негус в 1719 году) «деревенские жители позволяют себе необычайные вольности»[85]. Из-за этого, даже в зените власти Уолпола, на должностях вердереров вновь могли оказаться тори, причем тори, за которыми стояли горластые избиратели. Министры и чиновники – виги не проявляли особой симпатии к лесным судам, за исключением краткого периода в Виндзоре, в 1716–1725 годах, когда они пытались настроить суды в своих интересах. Чарльз Уизерс, генеральный инспектор лесов, жаловался, что в тех лесах, где имеются лесные суды, «разногласия вердереров, как правило, позволяют выгораживать правонарушителей»[86]. В заслугу старинному Виндзорскому суду Суанимота (ему дозволили выйти из употребления в конце 1720-х годов) можно поставить то, что он пусть и ворчливо, но возвышал голос против своих ганноверских хозяев[87]. Исследование других лесов вполне может показать, что старые лесные суды вымерли не потому, что были бессильны, а потому, что продолжали выражать, пусть и слабо, интересы лесных жителей.
В 1717 году, когда сохранность лесов, безусловно, находилась под угрозой, суд Суанимота был возрожден как прямое следствие «плохого состояния и положения леса»[88]. Старики все еще могли вспомнить возмутительные вольности, допускавшиеся во времена Английской республики, когда оленей забивали оптом, Большой парк распродали под фермы, а жители лесных районов расширили свои «права» так, как раньше и представить себе было невозможно. Один корреспондент из Беркшира писал в 1722 году казначею Сент-Джонс Колледжа в Кембридже, оплакивая последствия «праведных дней Оливера Кромвеля, когда земли церкви и колледжа были опустошены»[89]. Герцогиня Мальборо в 1728 году все еще пыталась помешать экипажам, лесовозным подводам и телегам силой открывать ворота Большого парка и требовать права проезда: «В этой части парка никогда не было никакой дороги, разве что во времена Оливера Кромвеля, когда король не владел своей короной: а тогда, возможно, дороги и были…»[90] Реставрация принесла в лесные районы контрреволюцию множеством чувствительных и болезненных способов. Карл II изгнал новоявленных фермеров, восстановил и расширил парки, возродил лесное правосудие[91]. При Якове II, по-видимому, суды действовали энергично. В последний год его правления против похитителей оленей приняли исключительные меры, когда шестнадцать правонарушителей были посажены под надзор привратника Виндзорского замка. Славная революция 1688 года, кажется, послужила сигналом к всеобщему бунту против оленей; без сомнения, жители леса надеялись, что «праведные дни» Оливера Кромвеля вот-вот вернутся.
Но вскоре они разочаровались. 27 декабря 1688 года перед судом по наложению ареста предстали около 150 человек, «и охотившихся, и убивавших оленей». Особенно отличились приходы Уинкфилд (32 человека) и Брэй (34 человека). Затем в мае 1689 года последовала прокламация главного выездного судьи с полным запретом на добычу торфа и дерна в лесу без лицензии или разрешения лесников. (Этой прокламацией явно отменялись освященные временем права лесных приходов.) В течение следующего года Сорокадневный суд проводился регулярно, и было совершенно ясно дано понять, что король Вильгельм намерен сохранять королевские прерогативы своего предшественника. Но после 1690 года режим, по-видимому, все-таки смягчился, хотя продолжались споры о добыче торфа и дерна в Уинкфилде и Сандхерсте. С восшествием на престол королевы Анны суды начали впадать в сонливость и плыть по течению. В сентябре 1704 года было объявлено, что по воле королевы охотничий заказник для кроликов в Суинли Рейлз должен быть уничтожен: вредоносные кролики должны уступить место зайцам[92].
Не может быть никаких сомнений в том, что время королевы Анны характеризовалось добродушной мягкостью в управлении лесами; возможно, ее частое пребывание в лесу больше способствовало обузданию правонарушителей, чем частые судебные разбирательства. Поуп провел детство в лесу и прославил этот мягкий режим в своем первом крупном произведении, поэме «Виндзорский лес»:
Промышленность в долинах расцвела,При Стюартах богатствам нет числа.Когда на трон взошел Георг I, внезапно оказалось, что эта цветущая «промышленность» предстает в совершенно ином обличье с точки зрения скотоводов и лесных фермеров. Изгородь Большого парка до того прогнила, что олени «ежедневно выходят наружу и их убивают сельские жители»[93]. Что касается Малого парка, то фонды на его ограждение были незаконно присвоены, а лесникам не платили четыре или пять лет[94]. Столь многие жители города Виндзора обзавелись ключами от ворот, что «парк сделался чуть ли не общественным»; частоколы вокруг новых посадок деревьев были так изломаны, что оленята забирались туда, объедали с деревьев кору и портили их; оленьи загоны и кормушки, а также ловушки для хищников совсем развалились, а оставшимся оленям ежедневно грозила гибель:
Олени убегают из парка, – писал один лесник, – так что мы не знаем, как с ними быть, и отправляются в сады городка Виндзора, и там их убивают, причем садовники говорят, что олени им натворили столько бед, что они не могут и не станут с этим мириться, и, кроме того, олени уходят в Старый Виндзор к стогам сена, принадлежащим фермерам, и те их убивают…[95]
Суммы, требуемые – и иногда ассигнуемые – на содержание в порядке ограждений и т. п., были очень велики, хотя нередко они каким-то образом исчезали в частных кошельках где-то между Казначейством и фактическими служащими лесных ведомств[96].
Если таково было состояние двух королевских парков, то можно ожидать, что лес за их пределами оказался в еще более плачевном виде – с точки зрения тех, кто заботился о растительном и животном мире лесов Его Величества. В памятной записке, составленной полковником Негусом (примерно в 1717 году), объяснялось, «как получается, что оленей так мало». Он писал, что добыча вереска, дерна и торфа в лесных районах достигает такого размаха, «что олени не могут найти ни укрытия, ни покоя». Жители вывозят дерн и топливо не только для собственного употребления, но и на продажу за пределами леса. Оленей «постоянно беспокоят, а лесников оскорбляют возницы этих телег». Старые тропы для верховой езды никуда не годятся, потому что сельские жители ездят по ним, как по обычным дорогам, и портят своими повозками, превращая путь в сплошные «колдобины» и «промоины». Нарушаются правила общинного выпаса овец, ограничения не соблюдаются, и «каждый пасет их столько, сколько ему заблагорассудится». Из-за того, что главный выездной судья выдает чрезмерное количество лицензий на охоту (хотя теоретически – только на мелкую дичь), а многочисленные обладатели синекур претендуют на добычу оленей как на льготу, положенную по должности, начались нападения на ланей. В Суинли Уок ограды вокруг вновь посаженных рощ снесены, и олени поедают свое собственное будущее укрытие. Под давлением всех этих обстоятельств олени «вынуждены искать убежища в лесах и укрытия на опушках, где их обычно отстреливают простые общинники». У четырех из каждых пяти оленей, забитых лесниками, обнаруживались следы от выстрелов. Надо полагать, что развитие техники и растущая доступность огнестрельного оружия спровоцировали бы этот кризис и сами по себе[97].
Письменные обращения лесников за ноябрь 1719 года дополняют жалобы полковника Негуса. При расчистке земли под посевы вырубили, выкорчевали и разобрали на части так много леса, рощ и живых изгородей, что возникла созданная человеком «угроза полного уничтожения укрытий» для животных. «Вереск и дерн ежегодно вывозят прочь… так что если на огороженных участках уничтожаются лесные укрытия для дичи, то на открытой местности они уничтожаются из-за продажи вереска». «Население в лесу строит до того высокие изгороди, а ворота у них так утыканы шипами, что олени не могут безопасно входить и выходить». В приходе Уинкфилд, расположенном в самом сердце леса, правонарушителей поощрял местный джентльмен Роберт Эдвардс, который купил несколько старых участков, служивших укрытием для оленей, обнес их забором высотой в девять футов и протяженностью в милю и два фарлонга и тем самым лишил оленей обычного пастбища и вынудил их уйти из леса. Он огородил и другой, соседний участок земли, оставив для оленей проход между обоими участками шириной менее ста ярдов; поэтому олени, переходя из леса на вересковую пустошь, легко попадались в ловушки похитителей. Другие фермеры Уинкфилда действовали по его примеру. В этих обстоятельствах, как написал Негус в сопроводительном письме, «лесникам стало совсем в тягость исполнять свои обязанности, и если не удастся найти какой-либо способ обуздать мистера Эдвардса, то королю будет лучше забыть про свой лес»[98].
Но король от своего леса не отказался. Его первая лесная охота и, возможно, его первый визит в Виндзор состоялись в сентябре 1717 года. В честь Ганноверской династии приготовили пышный официальный прием. Для почетных жителей были накрыты столы; король угощал местных дам «конфитюрами»[99]. Натаниэль Бут огласил свой старомодный наказ[100]. Состоялось также первое полноценное заседание суда Суанимота с 1708 года. Но не похоже, чтобы король угощал конфитюрами полковника Негуса и служащих лесного ведомства; он достаточно разбирался в охоте, чтобы по определенным признакам понять, что этот знаменитый английский королевский лес по части дичи уступает ганноверским стандартам. С тех пор он сохранял пристальный интерес к лесу[101]. А на жителей леса, соответственно, давило лесное начальство.
Фактически в лесу предвидели неудовольствие короля. Первые свидетельства ужесточения правил в отношении лесов стали заметны еще в предыдущем году. Было назначено новое лесное начальство, в основном из вигов, во главе с очень богатым военным авантюристом виконтом Кобхэмом. Когда в июне 1717 году умер заместитель Кобхэма, то полковника Негуса (который уже занимал несколько лесных постов) назначили вместо него[102]. Разумно предположить, что Негус, член парламента от Ипсвича, а также исполняющий обязанности королевского конюшего, являлся союзником Таунсенда[103], Уолпола и крайних вигов, сторонников Ганноверской династии[104]. Непосредственный эффект перемен можно оценить по количеству обвинений против правонарушителей в суде по наложению ареста или в уже упоминавшемся Сорокадневном суде. После последнего (и единственного) заседания суда Суанимота в правление Анны этот суд продолжал время от времени собираться, иногда предъявляя обвинения в захвате земель, вырубке леса без лицензии и т. д. С тех пор суд почти прекратил свою деятельность вплоть до апреля 1716 года, а с этого момента количество предъявленных обвинений резко возросло. Если на заседании суда Суанимота в 1708 году не было утверждено никаких обвинительных актов против лесных нарушителей, то на следующем заседании (1717), когда король Георг впервые посетил лес, вынесли девяносто одно обвинение. Большинство из них были представлены в суд по наложению ареста, поспешно созванный за три недели до визита короля: двадцать два обвинения вынесли за добычу вереска и торфа, тринадцать за захват участков, десять за неразрешенное строительство коттеджей или других зданий, пять за слишком высокие ограждения, препятствующие проходу оленей (в том числе Роберту Эдвардсу, нарушителю прав короля в Уинкфилде), четыре за нарушения при выпасе овец и одно за содержание борзых собак. С 1717 по 1725 год количество обвинительных постановлений поддерживалось на высоком уровне. Позднее их число сократилось[105]. (См. таблицу, с. 60.)
Обвинительные постановления охватывали дюжину лесных правонарушений. Среди них были посягательства на дичь: в июле 1717 года был обвинен джентльмен со слугами и пятью спаниелями, за «убийство тетерки, которую он уносил прочь, когда я его поймал»; в мае 1718 года обвинили йомена, ночью находившегося вне дома с борзой и с обычной собакой; к февралю 1719-го относится следующее показание: «Я заявляю, что услышал выстрел из ружья и пошел на звук, и я нашел Томаса Марлоу, сидящего в роще, именуемой Лонг Гроув, в… Уингфилде на Суинли Уок с ружьем при себе… это было в воскресенье, он был слугой Эдварда Бойера из Олд Брэкнелла, пекаря». Выносили обвинительные постановления за строительство домов или каретных сараев; за рубку леса или за корчевание рощ; за захват земли на пустырях. Но чаще всего обвинения выносили за добычу дерна, торфа и вереска. Эти занятия сосредоточивались в пустынных районах центральной и юго-западной части леса, в Уинкфилде, Сандхерсте, Саннингхилле и близ Уокингема, где корона и помещики (и их арендаторы по обычаю) оспаривали права друг у друга.
Давайте еще раз взглянем на Виндзорский «лес» с помощью топографической карты 1734 года. В нем находилось только два крупных поселения нуклеарного типа[106]: Виндзор на севере и Уокингем (или Окингем, Оукингем) на юго-западе. Виндзор был процветающим и растущим городом, имеющим самоуправление; записи о предоставлении городских привилегий за конец XVII – начало XVIII века говорят о наличии здесь ремесленников, производящих и торгующих предметами роскоши: ювелиров, часовщиков, кондитеров, виноделов, перчаточников, оружейников и т. п. Здесь работали мастера строительных специальностей, действовал рынок производства и сбыта продовольствия, кожевенная и деревообрабатывающая отрасли[107]. Уокингемом управляла очень маленькая, очень сплоченная группа горожан-самовыдвиженцев – в основном это были купцы и лавочники, – а поскольку подмастерьям городские привилегии не предоставлялись, то определить их профессии сложнее. Здесь, надо полагать, имелись профессии, обычные для маленького рыночного городка: пекари, мясники, аптекарь, провизор, торговец железом, цирюльник, изготовитель сальных свечей, чулочник, – а также люди, занятые снабжением дровами, кожевенным и строительным ремеслом[108]. Но контроль со стороны городских властей был настолько жестким и удушающим, что множество новых жителей селилось за пределами городских границ.
Помимо этих двух городков, нуклеарных поселений было мало: лишь деревушки, фермы и коттеджи, разбросанные по лесу. В центре и на западе лежали хорошие пахотные земли, и огромные площади, отвоеванные у леса столетия назад, обрабатывались по системе открытых полей[109]. На юге, вокруг Бэгшота и Сандхерста, лежали Бэгшотские пески, на которых почти ничего не росло, кроме папоротника, дрока и вереска.
В Уокингеме имелись земли обоих видов, две трети приходских земель были пахотными и пастбищными и находились в частной собственности, а треть (песчаные бесплодные пустоши) являлась собственностью короны, но фермеры имели здесь общинные права[110]. Несмотря на то что огораживание собственной земли было позволительным, лесные власти полагали, что этого нельзя делать, если возникают препятствия свободному передвижению оленей. Это требование короны фактически было аннулировано в Суррее в XVII веке, когда жители Эгама раз за разом совершали вылазки на оленей[111]. В Беркшире лесные чиновники жестко придерживались своего требования: в настоящих лесных районах жители деревень должны были терпеть, когда олени забредали на их засеянные поля, – так, они были обязаны подкармливать королевских оленей в обмен на свои права выпаса на пустошах; далее, крестьяне ни в коем случае не могли убивать оленей, самое большее – выгонять их с полей обратно в леса и пустоши[112].
Обвинения, выдвинутые в судах Суанимота в Виндзоре и утвержденные большим жюри

Примечания: Точность этой таблицы не может быть гарантирована. Суды Суанимота проводились от случая к случаю (в сентябре), когда этого желали лесные службы. Суды по наложению арестов (или Сорокадневные суды) проводились регулярно, и в книгах вердереров сохранились, по-видимому, точные записи о правонарушителях. Когда им предъявляли утвержденное обвинение, дела передавались на рассмотрение вердереров и жюри присяжных на следующей сессии суда Суанимота. Но судебные книги содержат лишь приблизительные записи о ходе рассмотрения дел в этой инстанции; предположительно, официальные протоколы письменно регистрировались (на пергаменте) и передавались главному выездному судье. Я использовал обе группы источников для составления данной таблицы; в Суанимот отправлялись только те обвиняемые, в отношении которых суд по наложению ареста находил billa vera («обвинение верно»). Но не все они туда попадали; помимо тех, кто умер или покинул свою местность в промежутке между арестом и судом, были и такие, против которых лесные чиновники могли предпочесть и не выдвигать обвинения. Такие случаи делают всякие попытки подсчета ненадежными, но данные в таблице, безусловно, указывают на тенденцию к снижению или росту количества дел.
1 Правонарушения двух видов: посягательства на лесные земли (средний размер захваченного участка составляет около ½ акра) и неразрешенное строительство коттеджей, хозяйственных построек, амбаров и т. д.
2 Тоже два вида нарушений: рубка древесины или веток без лицензии и без «присмотра» регардеров, а также вырубка молодой поросли (для ограждений, столбов, плетения корзин) или расчистка и «выкорчевывание» живых изгородей.
3 Убийство или преследование оленей; хранение «приспособлений» (сетей и силков), ружей, содержание охотничьих собак; и (два случая в 1688 году) добыча кроликов.