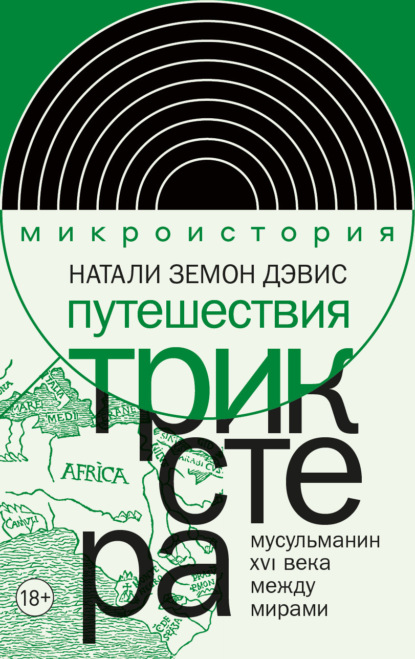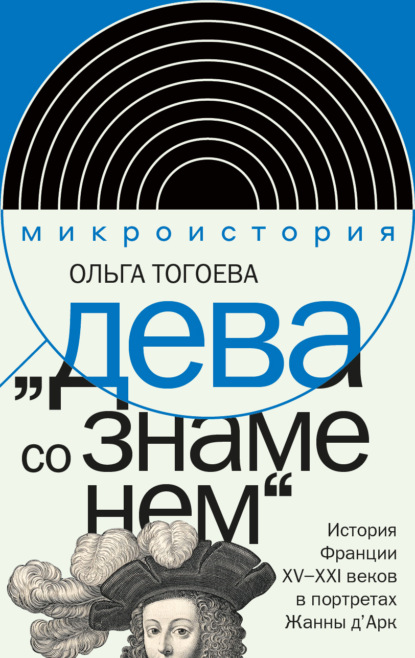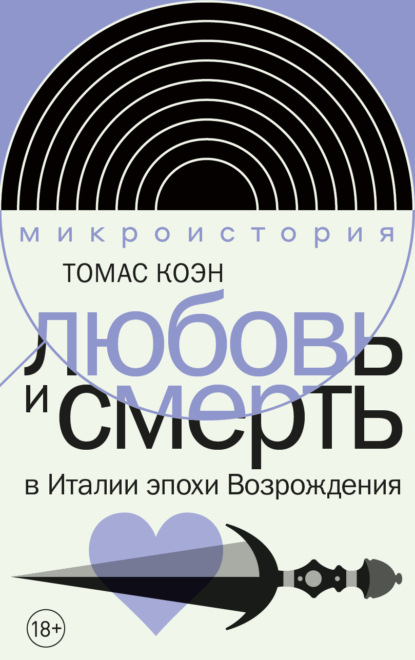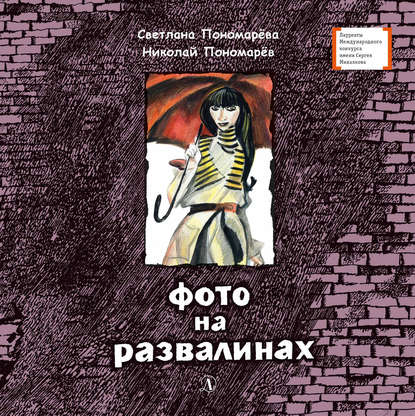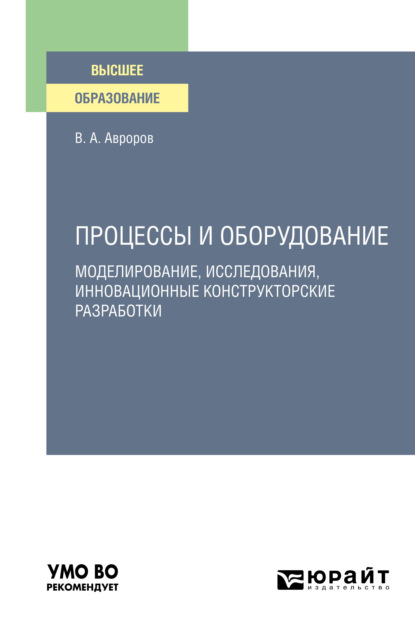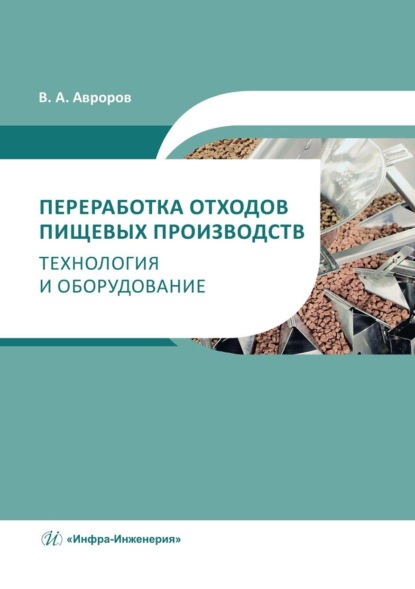Виги и охотники. Происхождение Черного акта 1723 года
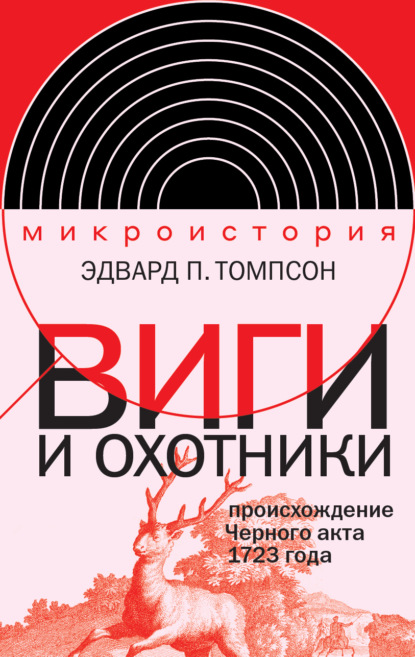
- -
- 100%
- +
4 Слишком высокие ограждения на пути оленей к местам кормежки и обратно.
5 Самыми важными из них являются правонарушения, касающиеся овец: (i) содержание многочисленных стад, перегружающих лес; (ii) содержание овец на «заповедных территориях» во время «месяца запрета охоты» – в 1688 году за это привлекли к ответственности 200 нарушителей, но они, по-видимому, не были переданы в суд Суанимота (возможно, лесные чиновники не смогли в этом случае установить прецеденты); (iii) «выпас с сопровождением» – то есть отправка овец в лес с пастухом. Это отпугивало оленей и позволяло овцам выбирать лучшие пастбища. Другие правонарушения включали выжигание вереска, выкапывание зеленых насаждений, незаконное устройство печей для обжига кирпича, разработку песчаных карьеров и подряды на откармливание поросят.
6 В этом суде было рассмотрено еще девять дел по не названным в документах преступлениям.
7 27 декабря 1688 года к суду привлекли около 150 человек, по нескольку почти из каждого лесного прихода, за преследование оленей или стрельбу по ним (предположительно, по случаю отстранения Якова II от престола), но ни одно из этих дел не было передано в суд Суанимота в 1690 году.
8 В этом суде еще двоих мужчин привлекли к ответственности за резку дерна, но признали неподсудными за недостаточностью доказательств (ignoramus), а затем все-таки заключили под стражу за плохое поведение.
9 Пятеро представших перед судом признаны неподсудными за недостаточностью доказательств.
10 По-видимому, никаких обвинений не было предъявлено, издан только один судебный приказ.
11 Этот суд демонстрирует самый высокий процент оправдательных приговоров в представленной группе (не считая 1701 года): 18 человек (45 %) сочтены неподсудными за недостаточностью доказательств (ignoramus) – против 22, обвинения против которых признаны верными (billa vera). 17 из 19 обвиняемых по делам о хищении древесины были признаны неподсудными за недостаточностью доказательств, но только 1 из 19 случаев захвата земли расценили таким же образом. Это наводит на мысль о том, что регардеры и присяжные стремились защищать общинные пастбища от частного присвоения, но были полны решимости отстаивать право фермеров рубить лес на своей собственной земле. Показательно также, что служащие лесного ведомства даже не пытались отдавать под суд похитителей дерна. С их точки зрения, если суд Суанимота проявлял своеволие, его деятельность вполне можно было и свернуть; так оно и случалось.
Таким образом, олени имели свободу передвижения по всей территории Беркширского леса. Но на самом деле предполагалось, что они собираются в определенных лесных массивах, внутри каждого из которых имелись парки, или «ограждения», которыми обозначались места, где они приносят потомство, и заповедные участки для спокойного кормления. Наиболее важными из них были Олд Виндзор, Крэнборн и Нью Лодж на севере, Суинли и Истхэмпстед в центре, Бигшот Рейлз дальше на юг и Биллингбер на западе. Подавляющее большинство оленей, как благородных, так и ланей, обитали в первых четырех из этих лесных массивов; из них Суинли Рейлз был самым удаленным от Виндзора и наиболее подверженным нападениям.
На взгляд непрофессионала, настоящий лесной массив и «дикая» местность внезапно заканчивались менее чем в пяти милях от Виндзора, на Уинкфилдской равнине. Здесь находилось три больших пахотных участка, которые возделывали по системе открытых полей, общей площадью около 500 акров[113]. Приход Уинкфилд был очень велик: двадцати миль в окружности, площадью около 8500 акров, он простирался с севера на юг почти через весь лес. На севере он включал в себя Крэнборн Парк и окаймлял Нью Лодж; в центре он охватывал Аскот, а на юге – Суинли Рейлз и доходил до границ Бэгшота и Сандхерста. Приход не имел ярко выраженного центра, дворянство было малочисленно; это издавна была страна йоменов, с большими и малыми фригольдами, с системой землепользования, основанной на обычае, и с частными рощами, которые регулярно вырубали для устройства ограждений из жердей, а также для изготовления плетней и корзин[114].
Из ремесленников в приходе проживали портные, плотники, ткачи, бондари, мясники, пекари, трактирщики и т. д. Но большинство жителей составляли фермеры и их работники. Поместье Уинкфилд охватывало больше половины прихода и располагало примерно сотней арендаторов по обычаю. До времен Генриха VIII оно принадлежало монастырю Абингдон, а когда последний был распущен, бо́льшую часть его земель раздали в пожалования от имени короны, за исключением Суинли, который был собственностью дочернего аббатства Стратфорд-ле-Боу. В царствование Якова I тогдашние лорды-владельцы поместья предоставили арендаторам необычайно широкие права, включая права на свой собственный строительный лес и право «выкапывать, брать и уносить торф, гравий, песок и суглинок, вереск, папоротник и дрок, где бы они ни находились на пустоши лорда»[115]. Вероятно, в результате таких послаблений в Уинкфилде имелось несколько песчаных карьеров и печей для обжига извести и кирпича, которые топились вереском. Как и в соседнем поместье Сандхерст, здесь также процветала торговля торфом, продававшимся за пределы прихода[116].
Вокруг права добывать дерн и заготавливать вереск в Уинкфилде разгорелся конфликт, который длился по меньшей мере уже столетие и должен был тянуться еще десятки лет. Это был один из тех трехсторонних споров между королем с его чиновниками, лордами поместья и арендаторами по обычаю (и постоянными жителями), в котором каждая сторона располагала документами и могла ссылаться на прецеденты, но который на практике решался силой и хитростью. Между 1717 и 1723 годами противостояние дошло до вооруженного столкновения. Апофеозом же юридического разбирательства конфликта стала тяжба между короной и лордами-помещиками в суде Казначейства несколькими годами ранее.
У нас есть возможность взглянуть на то, что происходило тогда, благодаря сохранившимся запискам, оставленным викарием Уинкфилда, преподобным Уиллом Уотерсоном[117]. Уотерсон, по-видимому, был исключительным приходским священником. Он появился в приходе в 1709 году в качестве старшего учителя школы Ранелаг – благотворительной школы, основанной графом Ранелагом специально для бедных детей из прихода. Он прослужил на поприще благотворительности пятьдесят лет и в школе обучал как детей бедняков, так и детей фригольдеров и йоменов (в качестве платных учеников). В 1717 году Уотерсон взял на себя также обязанности приходского викария, должность, которую он занимал независимо от какого-либо местного покровителя. Как приходской священник он считал «необходимой частью своего долга… интересоваться гражданским и политическим состоянием всего прихода, а также служить людям в церковном и духовном отношении». Таким образом, он содержал школу (часто сталкиваясь с большими трудностями), расследовал обоснованность расходования приходских взносов на благотворительность, а также заботился об общинных правах прихожан. Впервые приехав в Уинкфилд, Уотерсон обнаружил, что «люди не знали, на каком основании они держат свои участки и в каких отношениях они свободны от лесных законов либо подлежат их действию». Сначала он занялся своим собственным юридическим просвещением (используя документы в канцелярии Генерального инспектора и в Бодлианской библиотеке), а затем перешел к просвещению своих прихожан. Его влияние как хранителя приходской «памяти», а также в качестве учителя приходской школы, может быть – сколь бы прискорбным ни счел он сам такой результат, – даже каким-то образом отразилось на появлении «черных»[118].
Собственное мнение Уотерсона было недвусмысленным: «Свобода и лесные законы несовместимы». Записи с его соображениями насчет местных лордов-помещиков и владельцев парков большей частью были уничтожены, хотя сохранилось достаточно фрагментов, чтобы понять, что их автор сомневался в претензиях и даже в правах на собственность нескольких крупных лесных дворян и знати, причем явно был невысокого мнения об их достоинствах[119]: «Я не скажу больше ничего об их законных правах, – заканчивается один фрагмент, – не будет ни скромно, ни благоразумно просить их о покровительстве, на которое, пожалуй, небезопасно полагаться, получив его из их собственных рук»[120]. Его взгляды на «дерзость» служащих лесного хозяйства были недвусмысленными[121]. Вот что он рассказывал о конфликте вокруг прав Уинкфилда. Хотя можно привести множество прецедентов времен Елизаветы и Якова I, чтобы показать, что арендаторам предоставили широкие права и что приход, по крайней мере частично, освободили от действия лесного законодательства[122], тем не менее со времен Якова II лесные чиновники пытались посягать на эти права. Суинли Рейлз, огороженный участок окружностью в две мили и площадью в 191 акр, располагался посреди принадлежащей помещику пустоши на южной оконечности территории прихода. Этот участок принадлежал короне, но лесные власти стремились распространить свои права также на прилегающую территорию, для чего обозначили ее как «заповедный» или «зарезервированный участок», запретили там любую добычу вереска и дерна и установили столбы, чтобы обозначить свои претензии, так что «в конце концов он стал называться собственностью короны». После этого «жители прихода пришли к решению настаивать на своем праве, а потому и дальше резать там дерн». Это повлекло за собой в 1709 году иск Казначейства, по которому корона предъявила права на всю пустошь с ее выпасами и рыбными прудами. Но дорогостоящий судебный процесс не привел ни к какому решению, так как «представители короны сочли за лучшее отказаться от него, прежде чем дело дошло до слушания». По мнению Уотерсона и его прихожан, это показало, что со стороны короны «дело было необоснованным»[123].
Впрочем, вопрос еще не был решен. Без сомнения, опасаясь последствий неблагоприятного решения, генеральный атторней в 1712 году просто не явился в суд, и ответчикам из Уинкфилда предоставили «уйти без назначения новой даты слушания». Если бы все зависело от гражданского законодательства, решение было бы благоприятным для них и они без помех владели бы своей пустошью. Однако корона просто вернулась к тактике преследования в лесных судах, где принималось как факт то, что могло оспариваться в гражданских судах. Начиная с 1716 года в Суинли, Сандхерсте и Саннингхилле стало появляться множество исков о добыче дерна и вереска. И самое большое внимание было сосредоточено на Суинли. Когда король Георг нанес свой краткий визит в Виндзор в 1717 году, его повезли пострелять на Суинли Уок[124]; едва ли он очутился бы за столько миль от Виндзора, если бы полковник Негус не сопроводил его именно туда.
Тем временем на севере прихода Уинкфилд возникла новая угроза. Лесные власти решили пополнить численность могучих благородных оленей в Нью Лодж Уок. Этот лесной массив лежал между приходами Уинкфилд и Брэй и простирался до границы пахотных полей обоих приходов. Олени, как вспоминал Уилл Уотерсон, «стали невыносимой помехой для окрестных мест», а также причиной раздора между короной и приходом Брэй. Если они не сделались таким же источником неприятностей для Уинкфилда, то лишь благодаря удачному вмешательству мистера Роберта Эдвардса. Этот страдающий астмой лондонский торговец скобяными изделиями, стремясь обрести здоровье и дворянскую усадьбу, в 1709 году купил Уинкфилд Плейс. Когда Нью Лодж Уок заселили благородными оленями, Эдвардс купил за 600 фунтов земли между этими лесными угодьями и равниной Уинкфилд, «чтобы облегчить жизнь всем, у кого были земли на стороне Уинкфилда», а также чтобы охотиться самому. После покупки он «счел целесообразным соорудить вдоль общинных владений такую прочную неприступную изгородь, которая защищала бы от любых вторжений благородных оленей». За это (как мы видели) он был предан Сорокадневному суду, хотя большое жюри регардеров на заседании суда Суанимота 1717 года не нашло в деле оснований для предъявления обвинения. «Если человек заплатил за то, чтобы свободно владеть своей землей, – вопрошал Уотерсон, – что может ему помешать соорудить такую изгородь, какую заблагорассудится?» Без сомнения, таково было единодушное мнение прихода, показавшееся убедительным и регардерам.
Если в случае Суинли лесные власти, разочаровавшись в гражданских судах, прибегали к лесным судам, то в данном случае они попытались сделать обратное. Два года спустя, в 1719-м, полковник Негус и лесники обратились со своим иском к солиситору Казначейства, который рекомендовал действовать, обращаясь в Казначейство с официальными уголовными обвинениями[125]. Тем временем они прибегли к своим правам на упрощенное судопроизводство, ссылаясь на авторитет главного выездного судьи. Почти сорок лет спустя Уилл Уотерсон вспоминал о том времени, когда
люди не осмеливались ни срубить кустарник, ни свалить дерево без специальной лицензии от выездного судьи, что неизбежно сопровождалось как хлопотами, так и расходами. Случилось так, что один фермер вознамерился выкорчевать какую-то живую изгородь и приставил к ней работников, но их инструменты конфисковали, а их самих притащили в Лондон, чтобы привлечь к ответу за предполагаемое причинение вреда…[126].
«Такие произвольные действия», продолжал он, позволяли властям «хозяйничать от имени короля» и лишали его симпатии подданных.
Без сомнения, добыча дерна наносила ущерб лесу. Полковник Негус жаловался, что она пугала оленей, почва была изрыта глубокими колеями от повозок, а возчики и резчики дерна пользовались случаем добывать дичь браконьерским способом[127]. Но с точки зрения аграрной экономики именно олени наносили ущерб, а король в своих собственных парках мог держать их сколько угодно. В любом случае корона, безусловно, пыталась превысить свои права[128], а лесные чиновники, возможно, действовали из соображений личной заинтересованности[129].
Однако эта проблема была не столь простой; здесь затрагивались иные интересы, помимо интересов населения лесных территорий, с одной стороны, и короны – с другой. Так, в то время как приход Уинкфилд добивался неограниченных общинных прав не только для своих собственных фригольдеров и арендаторов по обычаю, но и для всего населения, с не меньшим старанием он стремился лишить этого права жителей соседнего прихода Уорфилд[130]. Более того, интересы фермеров Уинкфилда и его поместных лордов не совпадали. Обе стороны, конечно, хотели отвергнуть претензии короны. Но едва ли в интересах владельцев поместий было отстаивать весьма обширные притязания жителей на пустоши – притязания, которые основывались на обычаях, утвержденных судебными решениями во времена Якова I.
К 1717 году поместье Уинкфилд Мэнор превратилось в мелкое, слабое и раздробленное владение. Одна девятая часть принадлежала Грею Невиллу из Биллингбера, близ Туайфорда, о котором мы не знаем ничего – или почти ничего[131]. Восемь девятых принадлежали Энтони Мику, который также жил за пределами прихода, в Брэе, и который, по-видимому, владел только двумя или тремя фермами в Уинкфилде[132]. Вряд ли это была прибыльная собственность для кого-либо из них. Их годовой доход от полученного от их арендаторов-фригольдеров фиксированного налога на землю составлял 16 фунтов 9 шиллингов и 6 пенсов; к этому могли прибавляться еще 4 или 5 фунтов стерлингов в год от штрафов, судебных сборов, продажи дерна и т. д.[133] Наиболее ценными активами поместья, по-видимому, были семь или восемь прудов для разведения рыбы (карпа и форели), один из которых был достаточно велик, чтобы привлекать к себе водоплавающих птиц. С тех пор как в 1712 году лорды-помещики были освобождены от ответственности перед Казначейством, они приступили к расширению своих прудов и наверняка затопляли карьеры, откуда жители брали гравий и торф[134]. Вода неизбежно уничтожала права простых общинников и на выпасы, и на добычу торфа, и это может в какой-то мере объяснить, почему рыбные пруды стали одной из целей «черных» браконьеров. В любом случае такая инициатива мало помогла Мику выбраться из финансовых затруднений. В 1724 году, после эпизода с «черными», он устал от этих забот и попытался продать короне свои восемь девятых поместья. Поскольку выяснилось, что он еще раньше (в 1721-м) заложил поместье некоему мистеру Роджерсу (под залог долга в 360 фунтов стерлингов) на 500 лет, мы пока еще не можем установить, чем кончилось дело[135].
Таким образом, йомены Уинкфилда – фригольдеры и арендаторы по обычаю – находились в конфликте по поводу общинных прав как с лесными властями, так и со своими собственными лордами поместий; а поскольку эти права были обширными и распространялись на всех жителей, то крестьяне, скорее всего, принимали сторону йоменов. В поместье Сандхерст, на юге, вероятно, сложились отношения, похожие на упомянутые выше, и аналогичная конфликтная ситуация, но в этом приходе не нашлось школьного учителя-викария, который мог бы записать его историю. Здесь также – как и в Уокингеме, Финчхэмпстеде и Истхэмпстеде – мы встречаем конфликты из-за права на добычу торфа, причиной которых являются приказы об ограничении прежних – еще времен короля Якова II – правил пользования[136]. Здесь перед нами также, по-видимому, слабый и стесненный в финансах владелец поместья. Этот лорд, Томас Солмс, претендовал на право ежегодно забирать один акр торфа с одного из трех лесных участков: Вайлмир Боттом, Китхоулс Боттом или Мерк. За ним наблюдал не только полковник Негус, но и его собственные фригольдеры и арендаторы, которые, если он выбирал слишком много торфа, сбрасывали лишнее обратно в яму[137].
В сентябре 1717 года перед судом Суанимота предстали Роберт Шортер, его сын и еще два человека по обвинению в нарезании дерна в Сандхерсте по приказу Томаса Солмса. Через шесть лет Шортеру суждено было умереть в тюрьме как осужденному «черному» браконьеру, его сын находился в бегах, а о его брате Уильяме, тоже беглом, заговорили как о «короле» виндзорских «черных». Перед тем же судом предстал Джон Перримэн из Брэя за незаконное возведение изгородей высотой в десять футов вокруг собственной земли, которые мешали охоте и препятствовали доступу оленей к корму; его также ждало обвинение как отъявленного «черного» браконьера. Томас Хэтч-младший, преданный тому же суду за резку вереска в Винкфилде, в «укромных местах, где плодятся и кормятся» олени, в дальнейшем как «черный» окончил свои дни на виселице. Джеймса Барлоу из Уинкфилда, поставщика продовольствия, представшего перед тем же судом за строительство сарая для повозок и огораживание четырех поулов земли[138], ожидало обвинение не только как «черного», но и как подозреваемого якобита. Томас Стэнуэй-старший и его сын вместе с Уильямом Ди, приходским секретарем, также были обвинены (на более раннем судебном заседании) в том, что срезали и унесли груз вереска с заповедного участка рядом с Суинли Рейлз – с тех самых земель, права на которые корона не смогла установить в суде Казначейства. Томас Стэнуэй-младший в дальнейшем стал беглецом и человеком вне закона и обвинялся, вместе с Хэтчем, в соучастии в убийстве сына лесника. Несомненно, суд Суанимота в сентябре 1717 года свел вместе этих людей в таких ролях, для которых они уже давно были предназначены. В тот радостный день торжественного приема в честь Ганноверской династии, когда король угощал «конфитюрами», здесь зародилось объединение другого рода[139].
«Черные» не оставили ни манифеста, ни внятного объяснения своих мотивов; не сохранилось даже достаточного количества показаний по существу, по которым мы могли бы восстановить их дело. Следовательно, нам тем более необходимо поместить имеющиеся данные в наиболее полный контекст, дабы из этого контекста и действий «черных» сделать выводы об их мотивации. Конечно, эти побуждения всегда останутся в какой-то степени неясными. Но начиная с 1717 года действия «черных» предельно понятны: они угрожали лесным чиновникам и нападали на оленей в лесу.
2. Виндзорские «черные»
Со статистикой поголовья оленей в Виндзорском лесу дело обстоит лучше, чем с данными о людях, исконно в нем живших. Лесники проводили ежегодный подсчет животных, сохранились ордера на санкционированный отстрел и выбраковку. Опираясь на эти и другие источники, можно высказать некоторые соображения количественного порядка.
Согласно обследованию, проведенному Норденом в 1607 году, в Виндзорском лесу (исключая Большой и Малый парки Виндзора и те лесные территории в Суррее, которые позже были переведены на положение обычных земель) обитало 377 благородных оленей и 2689 ланей[140]. Из-за строгостей в соблюдении лесного законодательства, введенных во время правления Карла I[141], в обществе накопилось огромное недовольство, и наконец, в 1640 году большое жюри Беркшира выступило с петицией против «безудержного роста численности оленей, из-за которых, если позволить этому продолжаться еще несколько лет, не останется ни пищи, ни места для всех других существ в лесу»[142]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Пользуясь случаем, мы благодарим Пола Кинана (Paul Keenan), Валерию Бывальцеву и Михаила Землякова за помощь при подготовке к печати настоящего издания. В частности, Пол Кинан уточнил современные шифры тех архивных источников, на которые ссылается Томпсон.
2
О Томпсоне и его колоссальном влиянии на развитие историографии и в целом на общественные науки XX в. см.: Оболенская С. В. Э. П. Томпсон. Плебейская культура и моральная экономия. Статьи из английской социальной истории XVIII и XIX вв. // История ментальностей, историческая антропология. Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. М., 1996. С. 180–198; Могильницкий Б. Г. История исторической мысли XX века: Курс лекций. Вып. II: Становление «новой исторической науки». Томск, 2003. С. 154–164 (Раздел «Эдвард Палмер Томпсон – „гуманистический марксист“»); Giddens A. Out of the Orrery: E. P. Thompson on consciousness and history // Giddens A. Social Theory and Modern Sociology. Cambridge, 1987. P. 203–224; Palmer B. E. P. Thompson: Objections and Oppositions. London; New York, 1994; Boutier J., Virmani A. Présentation // Thompson E. P. Les usages de la coutume. Traditions et résistances populaires en Angleterre, XVIIe – XIXe siècle / Trad. par J. Boutier et A. Virmani. Paris, 2015. P. 9–44; Cerutti S. E. P. Thompson, historien des sociétés modernes: une relecture // Annales. Histoire, Sciences Sociales. 2015. № 4. P. 931–955; и др.
3
Достаточно упомянуть о том, что знаменитую итальянскую серию «Microstorie» издательства Эйнауди открывал (вслед за книгой «Indagini su Piero», в русском переводе «Загадка Пьеро», самого Гинзбурга) сборник статей Томпсона «Società patrizia, cultura plebea: otto saggi di antropologia storica sull’Inghilterra del Settecento» (1981) с обстоятельным предисловием Эдоардо Гренди (с. VI–XXXVI).
4
Альф Людтке в своих статьях и интервью неоднократно подчеркивал то огромное воздействие, которое оказал Томпсон на формирование Alltagsgeschichte. См., например: Людтке А. Что такое история повседневности? Ее достижения и перспективы в Германии // Социальная история. 1998/1999. М., 1999. С. 80–81; Дубина В. С. «Будничные» проблемы повседневной истории: о ее дефицитах и положении среди других направлений. Беседа с проф. Альфом Людтке о развитии Alltagsgeschichte // Социальная история. Ежегодник. 2007. М., 2008. С. 59.
5
Подробнее см.: Гинзбург К. Микроистория: две-три вещи, которые я о ней знаю // Гинзбург К. Мифы – эмблемы – приметы. Морфология и история / Пер. С. Л. Козлова. М., 2004. С. 287–320; Grendi E. Ripensare la microstoria? // Quaderni storici. 1994. N.s. Vol. 29. № 86 (2). P. 539–549; Levi G. On Microhistory // New Perspectives on Historical Writing / Ed. by P. Burke. Cambridge, 1991. P. 93–113; Revel J. Microstoria // Historiographie. Concepts et débats / Sous la direction de C. Delacrois, F. Dosse, P. Garcia et N. Offenstadt. Vol. I. Paris, 2010. P. 529–534; Trivellato F. Microstoria e storia globale / Trad. di F. Benfante. Roma, 2023.
6
Ле Руа Ладюри Э. Монтайю, окситанская деревня (1294–1324) / Пер. с фр. В. А. Бабинцева и Я. Ю. Старцева. Екатеринбург, 2001; Гинзбург К. Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI в. / Пер. с ит. М. Л. Андреева, М. Н. Архангельской. М., 2000.