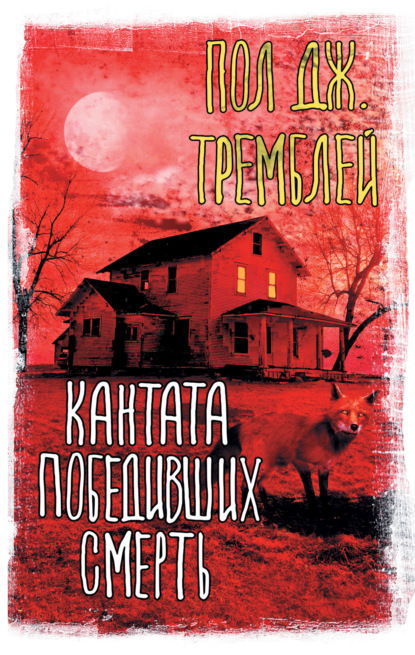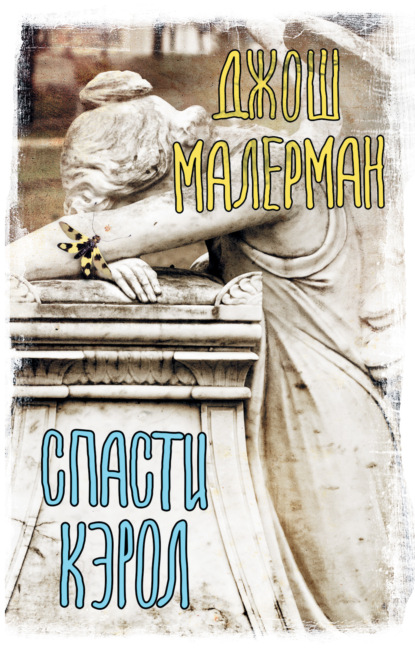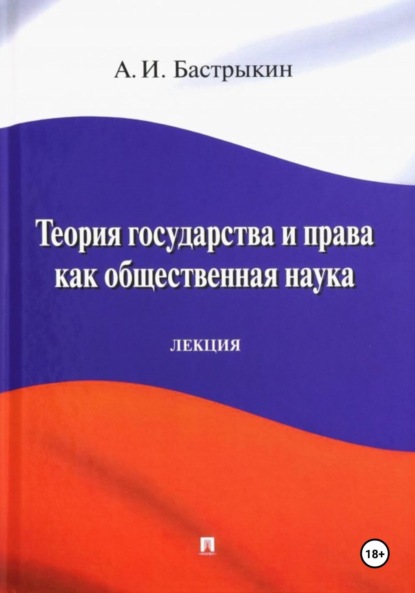Ужас в ночи

- -
- 100%
- +
Жалость охватила Мэдж, и ужас спал с нее, словно сморщенная кожура с расцветающего весеннего бутона.
– Милые мои, мне вас так жаль! – воскликнула она. – Не ваша вина, что вы несете мне то, что должны принести. Но я больше не боюсь, я только жалею о вас. Благослови вас Господь, несчастные малыши!
Мэдж подняла голову и посмотрела на близнецов. Хотя в галерее было совершенно темно, теперь она видела их личики – бледные и нечеткие, словно слабое пламя, колышемое сквозняком. Тем не менее на личиках этих не было ни горя, ни гнева – они улыбались Мэдж застенчивой детской улыбкой. На ее глазах силуэты близнецов побледнели и растворились, словно облачка пара в морозном воздухе.
Она не сразу поднялась с колен – не от страха, а потому что была охвачена чудесным, блаженным умиротворением и не желала его нарушать. Наконец Мэдж встала и ощупью двинулась к выходу, не испытывая ни оцепенения ночного кошмара, ни подстегивающего ужаса. Очутившись на площадке, она увидела Бланш, которая поднималась по лестнице, насвистывая и помахивая коньками.
– Как нога, родная? – спросила Бланш. – Вижу, ты уже не хромаешь.
– Наверное, прошла – я и думать о ней забыла. Бланш, милая, ты только не пугайся, но я видела близнецов.
На мгновение Бланш побелела от ужаса.
– Что?.. – выговорила она сдавленным шепотом.
– Да, я только что их видела. Но они были добры, улыбались, и мне было так их жалко. Почему‐то я уверена, что мне нечего бояться.
Похоже, Мэдж оказалась права, поскольку ничего ужасного с ней так и не произошло. Должно быть, ее отношение к близнецам, жалость и сочувствие тронули их и развеяли проклятие. По правде сказать, буквально на прошлой неделе я приехал в Черч-Певерил после наступления темноты и, проходя мимо длинной галереи, столкнулся с выходящей оттуда Бланш.
– Вот и вы! – воскликнула она. – А я сейчас навещала близнецов. Они были очень милы и задержались почти на десять минут. Скорее идемте пить чай!
Гусеницы
Месяца два назад я прочел в итальянской газете, что виллу Каскана, где я однажды гостил, снесли и строят на ее месте некий завод. Следовательно, больше нет смысла молчать о том, что я видел (или воображал, что видел) своими глазами в одной комнате и на одной лестничной площадке этой виллы, а также скрывать последовавшие за этим события, которые могут пролить свет на этот случай (а могут и нет – судить читателю).
Вилла Каскана была восхитительна во всем, кроме одного обстоятельства, и все же, существуй она поныне, ничто на свете – без малейшего преувеличения – не заставило бы меня вновь переступить ее порог, так как я убежден, что на вилле этой обитали весьма жуткие и опасные сущности. Большинство призраков в конечном счете практически безобидно. Они могут напугать, однако тот, кому они являются, обычно остается невредим. И даже напротив – порой призраки бывают настроены к людям дружески и творят добрые дела. Тем не менее потусторонние существа на вилле Каскана ни в коей мере не были дружелюбны, и, если бы их явление развивалось по немного иному сценарию, не думаю, что меня ждала бы лучшая участь, чем Артура Инглиса.
Вилла стояла на поросшем падубом холме неподалеку от коммуны Сестри-Леванте на Итальянской Ривьере. Из окон открывался вид на радужные переливы сказочного итальянского моря, а за домом каштановые леса взбирались по склонам, увенчанным соснами, которые по контрасту со светлой зеленью каштанов смотрелись черными. Виллу окружал пышный сад в самом разгаре весеннего цветения. Ароматы роз и магнолий, смешиваясь с соленым морским ветерком, текли рекой по прохладным комнатам со сводчатыми потолками.
На первом этаже дом с трех сторон окружала лоджия с колоннами, крыша которой служила балконом для комнат второго этажа. Парадная лестница с широкими ступенями серого мрамора вела из холла на площадку перед этими комнатами, которых насчитывалось три: две большие гостиные и спальня с удобствами. Последняя простаивала, а гостиные использовались. Отсюда парадная лестница раздваивалась. Одна половина вела на третий этаж, где располагалось несколько спален, в том числе и моя, а другая, всего полдюжины ступенек, – к другой группе комнат, где в описываемый период художник Артур Инглис занимал спальню и студию. Таким образом, с лестничной площадки перед моей спальней видны были и площадка второго этажа, и лестница, ведущая к комнатам Инглиса. Джим Стэнли и его жена, у которых я гостил, занимали комнаты в другом крыле дома, где также находились помещения для слуг.
Я прибыл солнечным майским днем как раз к обеду. Сад дурманил ароматами цветов, и не меньшее наслаждение, казалось, должна была доставить мне мраморная прохлада виллы после прогулки под палящим солнцем от пристани. Однако едва я переступил порог, как почувствовал (читателю придется поверить мне на слово): в доме что‐то неладно. Ощущение было довольно неопределенным, но очень сильным, и я помню, как, увидев на столе в холле письма, подумал, что меня ждут дурные вести. Тем не менее письма предчувствий не оправдали – все мои корреспонденты прямо‐таки сочились благополучием. И все же такое доказательство очевидного промаха интуиции не развеяло моей тревоги. В прохладном благоухающем доме было что‐то не так.
Я специально упоминаю об этом – ведь дурным предчувствием можно объяснить тот факт, что в первую ночь на вилле Каскана мне спалось очень плохо, хотя обычно я сплю как убитый и время от тушения света до утренней побудки проходит незаметно. Этим можно также объяснить и то, что, заснув, я увидел весьма яркий и оригинальный сон (если увиденное действительно было сном). Оригинальность его заключалась в том, что моим сознанием завладел образ, до того момента не приходивший мне в голову. Но прежде стоит описать кое‐какие разговоры и события дня, которые, вкупе с дурным предчувствием, могли породить ночные видения.
Итак, после обеда миссис Стэнли показала мне дом, особо упомянув о незанятой спальне на втором этаже, примыкавшей к комнате, где мы обедали.
– Мы оставили ее свободной: у нас с Джимом, как вы видели, очаровательная спальня с гардеробной, а поселись мы здесь, пришлось бы превращать столовую в гардеробную и обедать внизу, – пояснила миссис Стэнли. – Так что мы устроили себе маленькую квартирку там, Артур Инглис занимает комнаты в другом коридоре, а поскольку вы как‐то упоминали, что чем выше ваша комната, тем вам приятнее (правда же, у меня поразительная память?), то я разместила вас не здесь, а наверху.
Должен признаться, при этом объяснении я испытал сомнение, столь же смутное, как и дурное предчувствие. Зачем миссис Стэнли пустилась в объяснения, если дело только в этом?.. Допускаю, что в голове у меня промелькнуло некое подозрение.
Другое событие, которое могло повлиять на мой сон, – краткое упоминание о призраках за ужином. Инглис с непоколебимой уверенностью заявил, что всякий, кто хоть на йоту верит в существование сверхъестественных явлений, не заслуживает называться даже ослом. После этого разговор перешел на другое. Насколько я помню, больше ничего из произошедшего или сказанного не могло привести к описанному далее.
Мы разошлись довольно рано, и я, невероятно сонный, зевал всю дорогу до своей спальни. В комнате было довольно жарко, и я отворил все окна нараспашку, впустив белый свет луны и любовные песни соловьев. Быстро раздевшись, я улегся в постель, и сонливость сняло как рукой. Впрочем, я не стал досадовать, а с удовольствием лежал, смотрел на лунный свет и слушал соловьиное пение.
Затем я, возможно, уснул, и все последовавшее было лишь сном. Так или иначе, через некоторое время соловьи умолкли, а луна зашла. Решив почитать, раз уж по неизвестной причине мне не спалось, я вспомнил, что книга осталась в столовой на втором этаже, зажег свечу и спустился. Войдя, я увидел, что книга лежит на столике для закусок, а дверь в незанятую спальню открыта и оттуда льется причудливый серый свет, не похожий ни на лунное сияние, ни на рассветные сумерки. Я заглянул внутрь.
Прямо напротив двери стояла большая кровать с балдахином, в изголовье которой висел гобелен, и на ней кишели огромные гусеницы длиной с фут, а то и больше. Их тела испускали слабое свечение, которое я и заметил из столовой. Вместо присосок, как у обычных гусениц, эти имели несколько рядов клешней наподобие рачьих, которыми цеплялись за поверхность и подтягивались, чтобы переместиться. Жуткие желтовато-серые тела были покрыты шишками и буграми разной величины. Должно быть, гусениц насчитывалось несколько сотен – они образовывали на кровати шевелящуюся извивающуюся пирамиду. Одна из них с мягким шлепком упала на пол, и, хотя тот был из твердого камня, клешни образовали в нем вмятину, словно в мягкой замазке. Упавшая гусеница заползла обратно на кровать и присоединилась к своим страшным товаркам. У них не было лиц, если так можно выразиться, но на одном конце имелся рот, открывавшийся вбок при каждом вдохе.
Внезапно твари, словно почуяв что‐то, развернулись ко мне ртами и устремились в мою сторону, падая с кровати с противными мягкими шлепками. На миг я окаменел, как в дурном сне, а затем кинулся вверх по лестнице, чувствуя голыми ступнями холод мрамора. Вбежав в свою комнату, я захлопнул дверь.
В следующее мгновение я обнаружил себя стоящим у кровати, и липкий пот струился по моему телу, а в ушах звенел стук захлопнутой двери. Я совершенно точно проснулся, однако, в отличие от обычного ночного кошмара, ужас, охвативший меня при виде отвратительных тварей, не исчез. Даже если то был сон, мне он казался действительностью, и я не мог оправиться от страха. До самого рассвета я не решался прилечь и в каждом шорохе подозревал приближение гусениц. Клешням, дробившим каменный пол, не составило бы труда расколоть деревянную дверь – даже сталь их не удержала бы.
Едва вернулся славный добрый день, ласковый шепот ветра рассеял мой страх, и безымянные существа, чем бы они ни были, больше меня не пугали. Рассветное небо, поначалу бесцветное, стало розовато-серым, и вскоре сияющее шествие света растянулось по всему горизонту.
По очаровательному обычаю дома каждый был волен завтракать где и когда угодно, так что я провел завтрак на балконе и до самого обеда оставался у себя – писал письма и прочее. Когда я спустился к обеду, все уже приступили к еде. Между моими ножом и вилкой лежал маленький картонный коробок. Инглис проговорил:
– Взгляните, вы ведь интересуетесь естествознанием. Нашел ночью у себя на покрывале. Не представляю, что это такое.
Думаю, еще прежде, чем открыть коробок, я предвидел, что там обнаружу: маленькую серовато-желтую гусеницу с причудливыми бугорками и шишками на кольчатом теле. Она очень активно ползала, и ножки ее походили на рачьи клешни. Я закрыл коробок.
– Не знаю, что это за гусеница, но выглядит она весьма неприятно. Что вы собираетесь с ней делать?
– Оставлю себе, – ответил Инглис. – Она начинает окукливаться – интересно, какой из нее выйдет мотылек.
Вновь заглянув внутрь, я убедился, что лихорадочное ползание гусеницы действительно вызвано плетением кокона. Инглис заметил:
– У нее странные ноги, будто рачьи клешни. Как по-латыни «рак»? Cancer? Если это уникальный вид, назовем его Cancer Inglisensis.
Тут у меня в мозгу мелькнула вспышка, в свете которой все увиденное во сне и наяву сложилось в некую картину, и ужас, пережитый ночью, связался со словами Инглиса, поэтому я, недолго думая, вышвырнул коробок в окно. Неподалеку от дома журчал фонтан, и коробок упал прямо в воду.
Инглис рассмеялся.
– Вот так любители оккультного обращаются с твердыми фактами! Бедная моя гусеница!
Потом беседа перешла на другие темы, и я привел это подробное описание тривиального разговора лишь с целью записать все, что имеет хоть малейшее отношение к теме оккультного или к гусеницам. Я, конечно, был не в себе, когда швырнул коробок в фонтан. Объяснить это можно лишь тем, что его содержимое представляло собой точную миниатюрную копию тех, кого я видел на кровати в пустой комнате. И хотя превращение ночных видений в существо из плоти и крови (или из чего бы ни состояли гусеницы) могло бы избавить меня от страха, на деле ничего подобного не произошло – шевелящаяся пирамида на незанятой кровати лишь сделалась отвратительно настоящей.
После обеда мы час-другой лениво прогуливались в саду и отдыхали на лоджии, а около четырех мы со Стэнли отправились купаться. Наш путь лежал мимо фонтана, в который я бросил коробок. На неглубоком дне бассейна колыхались в прозрачной воде белые останки размокшего картона, а по ноге мраморного итальянского купидона с винными мехами, из которых лилась вода, ползла гусеница. Каким‐то невероятным образом она пережила падение, выбралась из размокшей тюрьмы и теперь, недосягаемая, ползла, не переставая плести свой кокон.
Заметив меня, словно твари из сна, гусеница вырвалась из опутывавших ее нитей, сползла по ноге купидона и, извиваясь, как змея, поплыла ко мне с удивительной скоростью (не говоря о том, что удивителен сам факт существования водоплавающих гусениц). Уже вскоре она выползала из мраморного бассейна. В этот момент к нам присоединился Инглис.
– Ба! Да это наша старая знакомая Cancer Inglisensis! – воскликнул он, заметив гусеницу. – До чего же она спешит!
Мы стояли рядом на дорожке, и, оказавшись в шаге от нас, гусеница принялась водить ртом из стороны в сторону, словно не могла выбрать. Наконец, решившись, она заползла на ботинок Инглиса.
– Я нравлюсь ей больше всех, однако не могу ответить взаимностью. И раз уж она не тонет, то… – Он стряхнул тварь с ботинка на гравий и наступил на нее.
После полудня воздух сделался тяжелее и жарче из-за южного сирокко, и ночью я вновь отправился в постель очень сонный. Однако за моей сонливостью скрывалось недремлющее и даже усилившееся осознание того, что в доме неладно и где‐то поблизости таится опасность. Тем не менее я сразу уснул, а через неопределенное время проснулся (или мне приснилось, будто проснулся), чувствуя, что надо немедленно вставать или будет слишком поздно. Я лежал в постели (во сне или наяву) и пытался побороть этот страх, уверяя себя, что всего лишь стал жертвой собственных нервов, растревоженных сирокко или мало ли еще чем. Одновременно с этим другой частью сознания, если можно так выразиться, я ясно понимал, что опасность возрастает с каждой минутой промедления. Наконец это ощущение настолько усилилось, что я встал, оделся и вышел из комнаты. Увы, я медлил слишком долго: вся площадка первого этажа уже кишела гусеницами. Двустворчатые двери гостиной, к которой примыкала незанятая спальня, были закрыты, но гусеницы протискивались в щели, просачивались через замочную скважину, вытягиваясь стрункой, и вновь превращались в жирные бугорчатые туши. Одни, словно принюхиваясь, ползали по ступенькам, ведущим в коридор к комнате Инглиса, другие ползли по лестнице, на верхней площадке которой стоял я. Путь к спасению был отрезан, и ужас, охвативший меня, когда я это осознал, не поддается описанию.
Постепенно большая часть гусениц двинулась в направлении комнаты Инглиса. Омерзительной приливной волной катились они по коридору, и бледно-серое свечение уже плескалось у его двери. Тщетно я пытался кричать, стремясь предупредить Инглиса и в то же время смертельно боясь привлечь их внимание, – изо рта не доносилось ни звука. Гусеницы просачивались в комнату через щели вокруг двери, а я все делал жалкие попытки докричаться до Инглиса, чтобы он бежал, пока еще не поздно.
Наконец коридор опустел, все гусеницы уползли, и я впервые осознал холод мрамора под своими ступнями. На востоке занимался рассвет.
Полгода спустя я встретил миссис Стэнли в одном загородном доме в Англии. Когда мы обсудили все, что только можно, она сказала:
– По-моему, я вижу вас впервые с тех пор, как месяц назад получила кошмарные новости об Артуре Инглисе.
– Я ничего не слышал.
– Вы не знаете? У него рак, и врачи даже не рекомендуют делать операцию, поскольку на исцеление надежды нет – болезнь распространилась по всему телу.
На протяжении этих шести месяцев ни дня не прошло без мыслей о моих сновидениях (или как вам будет угодно их называть) на вилле Каскана.
– Ужасно, правда? – продолжала миссис Стэнли. – И я не могу не думать, что он, возможно…
– Заразился на вилле? – подсказал я.
Она взглянула на меня с изумлением.
– Почему вы так говорите? Откуда вы знаете?
После этого миссис Стэнли призналась, что за год до того на вилле умер от рака один человек. Она, естественно, советовалась с лучшими специалистами, и ей объяснили, что наибольшей предосторожностью будет оставить комнату незанятой. Конечно, там провели тщательную дезинфекцию, заново побелили потолок и покрасили стены, но…
Кошка
Без сомнения, многие помнят выставку в Королевской академии художеств несколько сезонов тому назад – в год, который прозвали годом Элингема, потому что тогда Дик Элингем одним прыжком вознесся над толпой ремесленников и незыблемо утвердился на вершине славы. Он представил три портрета – шедевры, перед которыми померкли все картины, висевшие рядом. Впрочем, не в лучшем положении оказались и те, что висели поодаль, поскольку всех интересовали лишь эти три.
Звезда Дика Элингема вспыхнула внезапно, словно метеор из ниоткуда, сияющей лентой прочертивший далекое звездное небо, и столь же необъяснимо, как расцвет весны на пыльном каменистом холме. Можно подумать, фея-крестная вспомнила о забытом питомце и одним мановением своей волшебной палочки одарила его исключительным талантом. Впрочем, как говорят ирландцы, палочку она держала в левой руке, ибо дар ее имел и оборотную сторону. А может быть, прав Джим Мервик, и теория, изложенная в его монографии «О некоторых скрытых повреждениях нервных центров», ставит точку в этой истории.
Сам Дик Элингем, естественно, был в восторге от своей феи-крестной или скрытого повреждения (чем бы из двух ни объяснялся успех) и откровенно признавался другу Мервику, тогда еще не выбившемуся из толпы подающих надежды молодых врачей (его монография была написана уже после смерти Дика), что для него самого произошедшее столь же необъяснимо, как и для окружающих.
– Знаю лишь, что минувшей осенью провел два месяца в чудовищной депрессии, ожидая, когда сойду с ума, – признавался Дик. – Часами я сидел и ждал, что вот-вот в голове щелкнет и для меня все кончится. Причину этому ты знаешь. – Он остановился, чтобы налить себе щедрую порцию виски, разбавил наполовину водой и зажег сигарету. Пояснять причину действительно не требовалось.
Мервик отлично помнил, как невеста Дика бросила его с внезапностью, почти заслуживающей восхищения, когда появился более подходящий ухажер. Тот обладал прекрасной внешностью, титулом и миллионами, поэтому леди Мэдингли – когда‐то будущая миссис Элингем – ничуть не жалела о содеянном. Она была из тех белокурых, стройных, нежнокожих девушек, которые, к счастью для мужского рассудка, встречаются довольно редко и напоминают дикую потустороннюю кошку в человеческом обличье.
– Нет нужды объяснять причину, – продолжал Дик, – но, говорю тебе, на протяжении тех двух месяцев я всерьез думал, что безумие – единственный возможный исход. Однажды вечером я сидел здесь один, как всегда, и вдруг в голове действительно что‐то щелкнуло. Помню, как равнодушно спросил себя: неужели это и есть безумие, которого я ждал, или то признак некоей смертельной поломки, что предпочтительнее? Думая об этом, я осознал, что больше не чувствую себя несчастным и подавленным.
Дик надолго замолк, улыбаясь своим воспоминаниям.
– Так что же? – напомнил о себе Мервик.
– А то, что с тех пор я больше не страдаю, а, наоборот, чувствую себя безмерно счастливым. Некий божественный доктор словно стер с моего мозга пятно, доставлявшее такую боль. Господи, как было больно!.. Не хочешь ли выпить?
– Нет, спасибо, – ответил Мервик. – Но какое отношение все это имеет к твоим картинам?
– Самое непосредственное! Едва я вновь ощутил себя счастливым, как понял, что все вокруг выглядит иначе. Цвета стали вдвое ярче, формы и очертания – четче. Раньше весь мир был размыт, покрыт пылью и плохо освещен, а теперь включили свет, и увидел я новое небо и новую землю. С этим пришло осознание, что я могу писать вещи такими, какими их вижу. Так я и поступил.
Прозвучало это с долей самодовольства, и Мервик рассмеялся.
– Хотел бы я, чтобы у меня в голове щелкнуло, если это дает такое восприятие! Однако нельзя исключать, что щелканье в голове не всегда приводит к подобным результатам.
– Возможно. К тому же, насколько я понимаю, в голове не щелкнет, если перед этим не пережить такую чудовищную боль, какую перенес я. И честно говоря, я не желал бы ее повторения, даже если бы оно сулило мне глаза как у Тициана.
– На что был похож щелчок? – спросил Мервик. Дик на мгновение задумался.
– Бывает, получаешь посылку, обвязанную шпагатом, а ножа под рукой нет, и тогда ты натягиваешь шпагат и прожигаешь его. Так это и ощущалось: никакой боли, просто чувства слабели, слабели и ушли – легко и без усилия. Боюсь, не слишком понятное объяснение, но так все и было. Шпагат, видишь ли, тлел два месяца.
Дик порылся в горе писем и бумаг на письменном столе. Выудив конверт с изображением короны, он тихонько рассмеялся.
– Похвалите меня перед леди Мэдингли за исключительную дерзость, в сравнении с которой и лев кроток, как ягненок. Вчера она написала мне с просьбой закончить ее портрет, который я начал в прошлом году, и назначить за него цену.
– Думаю, тебе повезло от нее отделаться. Ты, наверное, даже не ответил?
– Еще как ответил. Почему бы нет? Написал, что портрет будет стоить две тысячи фунтов и я готов приступить немедленно. Она согласилась и сегодня вечером прислала мне чек на тысячу.
Мервик уставился на него в изумлении.
– Ты с ума сошел?
– Надеюсь, нет, хотя трудно сказать наверняка. Даже твои коллеги-врачи не знают в точности, из чего складывается безумие.
Мервик встал.
– Неужели ты не видишь, какому огромному риску подвергаешься? Вновь увидеться с ней, быть рядом, смотреть на нее – а я, между прочим, видел ее сегодня днем: нечеловечески прекрасна! – разве это не воскресит прежние чувства и страдания? Слишком, чересчур опасно!
Дик покачал головой.
– Нет никакого риска. Всем сердцем и душой я испытываю к ней абсолютное, безграничное равнодушие. Я даже не чувствую ненависти. Если бы я ее ненавидел, то мог бы влюбиться вновь. А сейчас мысли о ней не возбуждают во мне никаких чувств. И такое потрясающее спокойствие заслуживает вознаграждения. Я уважаю грандиозные явления. – С этими словами он допил виски и тут же налил еще.
– Это четвертый, – заметил Мервик.
– Правда? Я не считаю – это мелочное внимание к неинтересным деталям. И как ни странно, алкоголь на меня теперь совсем не действует.
– Зачем же пить?
– Без него завораживающая яркость цвета и четкость очертаний немного ослабевают.
– Это вредно для здоровья, – заметил Мервик тоном врача.
– Дорогой мой, посмотри на меня внимательно, – рассмеялся Дик. – Если найдешь хоть малейшие признаки злоупотребления возбуждающими веществами, я откажусь от них совсем.
И действительно, в Дике можно было обнаружить лишь признаки исключительного здоровья. Он стоял с бокалом в одной руке и бутылкой виски – черной на фоне белой сорочки – в другой, и руки эти совсем не дрожали. Загорелое лицо не было ни отечным, ни исхудавшим, чистая упругая кожа светилась здоровьем. Взгляд ясен, веки не набухли, под глазами нет мешков. Статный и крепкий, словно атлет, Дик выглядел ходячим воплощением идеального здоровья. Его движения были точны и легки. Даже натренированный глаз врача не улавливал примет, неизбежно выдающих пьяницу. И внешность Дика, и поведение исключали такую возможность. Он смотрел в глаза собеседнику, не отводя взгляда, и не проявлял никаких симптомов душевного расстройства.
Несмотря на это, он был однозначно ненормален, как и его история – долгие недели депрессии, исчезнувшей по щелчку, который стер из памяти воспоминания о любви и горе. Ненормален был и внезапный взлет на вершины художественного мастерства после стольких весьма заурядных работ. Почему бы в таком случае и здесь не обнаружиться какой‐либо аномалии?
– Согласен, нет никаких признаков того, что ты злоупотребляешь возбуждающими веществами, – сказал Мервик, – но будь ты моим пациентом (не навязываюсь!), я заставил бы тебя от них отказаться и прописал бы постельный режим на месяц.
– Зачем, скажи на милость?
– Теоретически это лучшее, что ты сейчас можешь сделать. У тебя был сильный шок, о чем свидетельствуют несколько недель жестокой депрессии. Здравый смысл говорит: восстановись, побереги себя! А ты вместо этого стремительно покоряешь вершины. Признаю, тебе это как будто на пользу, к тому же ты обрел способности, которых… Ах, все это чистейшая бессмыслица!