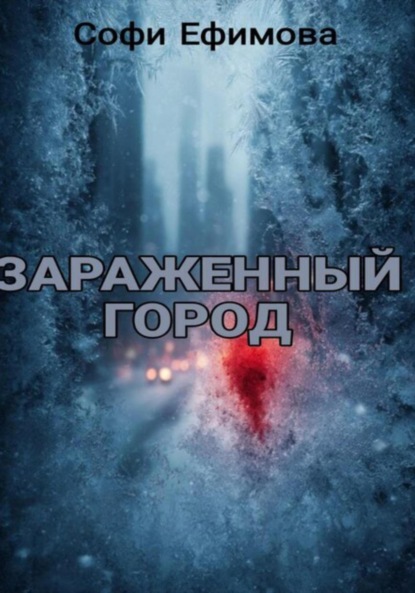Молодая семья — Матвей, Виктория и их семилетняя дочь Алиса — переезжают в новый район у самого леса. Они рады свежему воздуху и спокойствию. Но в первую же ночь Алиса просыпается и говорит, что с ней в окно разговаривает «лесной человек». Родители списывают всё на детские фантазии, пока ночью из детской не доносятся тихие шепоты на непонятном языке, а на стенах не начинают проступать влажные следы, пахнущие гнилой листвой. Чтобы спасти дочь, Матвею придётся спуститься в самое сердце леса, где обитает нечто, что не просто наблюдает, а подражает голосам любимых людей, заманивая жертв в свою ловушку.
- Книги
- Аудиокниги
- Вебтуны
- Жанры
- Cаморазвитие / личностный рост
- Зарубежная психология
- Попаданцы
- Боевая фантастика
- Современные детективы
- Любовное фэнтези
- Зарубежные детективы
- Современные любовные романы
- Боевое фэнтези
- Триллеры
- Современная русская литература
- Зарубежная деловая литература
- Космическая фантастика
- Современная зарубежная литература
- Все жанры
- Бесплатные книги
- Блог
- Коллекции
- Серии
- Черновики
Вход В личный кабинетРегистрация