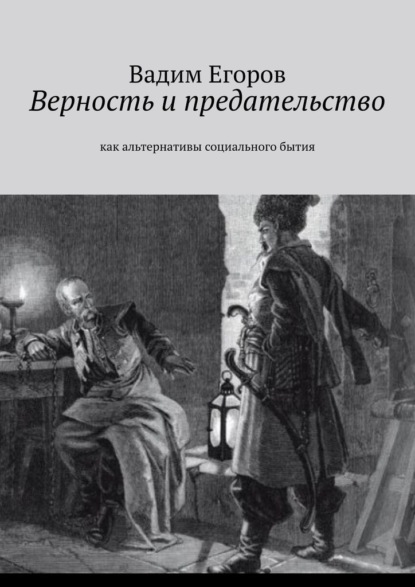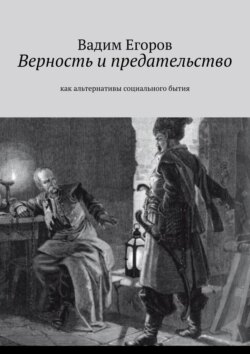
000
ОтложитьЧитал
Рецензент Станислав Николаевич, доктор филос. наук, профессор Уральского федерального университета Некрасов
Рецензент Герман Артурович, член РОО "Знание" Егоров
© Вадим Егоров, 2025
ISBN 978-5-0067-0617-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
От редакции
Нам уже несколько лет знаком как автор Вадим Владимирович Егоров. Он пишет и научные монографии, и адресованные как специалистам, так и широкому читательскому кругу читателей книги о культуре, духовной жизни Екатеринбурга, Урала.
Данная монография посвящена остроактуальной теме, наряду с собственно теоретическими положениями здесь освещается много событий прошлого и настоящего, фигурирует много реальных персонажей. Напомним при этом читателям, что позиция редакции может и не совпадать с позицией автора.
Введение
Драматичные или любые кризисные времена дают обществу и личности, той или иной социальной группе богатую пищу к осмыслению своего бытия, переоценке ценностей, включая даже базовые. Наверно читателю хоть раз приходило на ум почему в отечественной и зарубежной социально – гуманитарной науке совсем не разрабатываются негативные, – назовем их так, – категории. Например «конформизм», «предательство» и т. д. Неужели только лишь потому, что человечество не любит разговоров о плохом? Вряд ли, ведь, скажем, криминалу посвящены фильмы, спектакли, романы в литературе, целый комплекс юридических наук.
Наверно поскольку социально -гуманитарное знание развивается неравномерно, интерес к данным проблемам есть, но он просто пока не «осознал себя» в должной мере. Пора уже, однако, эти темы освещать. Трудно подчас сразу изъясняться академично и копать глубоко. Тут много нюансов. Ну хотя бы начать, всё ведь это необходимо. Ввяжемся в это и пусть злословят те, кто долгие годы просто помалкивал или ограничивался репликами дома на кухне.
Верность родной стране, своему народу с его историей и культурой понимается нами как основа нашего существования в жизни общества. Этот мир большинство из нас бескорыстно любит с детства, здесь наше место силы и источник вдохновения. В этой верности основа нашей гражданственности не столько по паспорту, сколько по сути. Верность эта придает человеку устойчивость, ведет по жизни, помогает держать, сохранять свое достоинство. Ведь «что такое гражданин? Отечества достойный сын», – точно сказал Н. Некрасов. В данном аспекте и хочется автору рассматривать социальное бытие. Под бытием в самом широком смысле нами понимается существование, сущее вообще, а социальное бытие предстает как форма бытия, мир духовной и практической деятельности людей, их отношений друг к другу и самим себе. Поскольку социальное бытие включает в себя индивидуальное бытие человека в обществе, историческом процессе и бытие общество, нам надлежит рассматривать нашу проблему в сочетании исторического и логического.
Антиподом, некоей альтернативой верности человека своей стране, народу, своему родному миру выступает предательство как отречение от этой страны, этого мира и содействие выдачи их на заклание врагам, уничтожение, растворение в небытии. Предательство, по Ожегову, «низкий поступок, нарушение верности» (Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.: ГИС, 1960). Оно не обязательно обращается в верность чужому, враждебному, но просто становится прибежищем корысти, панического страха смерти, избавлением от гражданского долга. Альтернатива эта шаткая, но для кого -то и заманчивая, некое потустороннее бытие свободы от сложностей в мире своего родного, побег за рамки привычного, сладость вкушения запретного плода. Для одних даже не стоит вопроса быть верным или предать (для них это даже не выбор, а непреложная данность), для других в критический момент, минуту слабости вопрос этот всплывает, но решается всё же в пользу верности, третьи вольно или невольно становятся на путь предательства, измены.
Предательство и измена для нас синонимы, хотя попытка некоторого различия в ряде жизненных обстоятельств нами здесь в дальнейшем будет сделана. И предательство, хоть оно и не равновелико верности как исходному пункту, некоему базовому аспекту рассмотрения социального бытия, тоже может быть оценено как такой базовый аспект. Общество, человечество повидали и пережили немало разных предательств, вряд ли кто с этим поспорит. Базовость и социальность здесь всё же различна, потому, что для верных простирается вся страна, ее история и культура, для других – какое -то смешение обрывков этого и недавнего чужого.
Актуальность данной темы для большинства наших соотечественников вполне очевидна. Россия ведет нелегкие военные действия и периодически, если не непосредственно, в личных контактах, то по крайней мере опосредованно – через средства массовой коммуникации – приходится сталкиваться с фактами предательства или чем -то очень напоминающим предательство страны, нашего народа, в том числе и со стороны именитых соотечественников – всем давно известных «знаковых» персон (таких еще зовут «агентами влияния»).
Степень научной разработанности темы, как это не удивительно, почти никакая: некоторые абзацы в ходе рассмотрения более общих или попутных тем, отрывочные тезисы и восклицания обществоведов о засилии предателей, изменников в том или ином сегменте общества уже давно явно недостаточны для наших дней. В религии, литературе об этом несравненно больше сказано, показано. Все помнят «Библию» о предательстве Христа Иудой, в исламе предательство – нарушение обещаний и несоблюдение договоренностей, занимают самое презренное место в обществе и перед Всевышним.
Нехватку научных исследований о предательстве, противостоянии предательства и верности восполняет литературная классика, в том числе – сочинения «Божественная комедия» Данте, «Ричард Третий», «Гамлет», «Король Лир» Шекспира, «Тартюф» Мольера, «Полтава», «Капитанская дочка» А. С. Пушкина, «Воздушный корабль» М. Ю. Лермонтова, «Тарас Бульба» Н. В. Гоголя, «Князь Серебрянный» А. К. Толстого, «Кавказский пленник» Л. Н. Толстого, «Иуда Искариот» Л. Н. Андреева, «Цусима» А. Новикова -Прибоя, «Черные воды» М. Карима, «Дорога Москвы» И. Исламова, «Сотников» В. Быкова, «Батальоны просят огня» Ю. Бондарева, «Противостояние» Ю. Семенова, «Обитель» З. Прилепина и др.
Некоторую помощь в понимании, раскрытии проблемы оказали нам суждения Августина Блаженного, трактовавшего в «Исповеди» предательство как любовь к себе в ущерб другим (Августин Аврелий. Исповедь. М.: АСТ, 2024), Ф. Ницше о предательстве в «Esse Homo (Как становиться самим собой)» как проявлении человеческой слабости и («По ту сторону добра и зла») как о сломе кем -то из бывших своих нашего доверия в «По ту сторону добра и зла», О. Шпенглера в «Закате Европы» Т. 2 о «псевдоморфозе».
В научных публикациях ряда современных психологов предательство характеризуется как неустойчивая позиция, напряженная социальная ситуация, «деструктивная, травмирующая» индивида и общество, их нормы и ценностей (См. об этом, напр.: Гуриева С. Д., Виноградова Я. Е. Социальные представления о феномене предательства: анализ структуры и содержания в различных возрастных группах // Вестник Вятского ун -та. 2021. Психол. науки. №1 – С. 139), предательство – «маркер деструктивной культуры» (Муздыбаев К. Психология зависти // Психол. журнал. 1997. Т. 18. №6. С. 3 -12), «ситуация уровня катастрофы» (Rashman S. Betroual // Behav. Res. Ther. 2010. Apr. Vol. 48 (4). P. 304 -311). Имеют место и данные опросов различных респондентов, но психологического плана.
Немало от древности до современности росписей, рисунков, плакатов разных времен посвящены прямо или косвенно верности, предательству, коллаборационизму и т. п. Некоторые из них, находящиеся в архиве автора этих строк, в свободном за давностью срока доступе будут приведены нами в данной работе.
Наверно политологи, философы, юристы ждут своего часа в еще большей накаленности положения в стране и мире. Обществоведы наши прежде немало писали о патриотизме, подвиге. Вроде бы с перестроечных и «ельцинских» времен стало можно писать о предательстве сколько угодно, и самих предателей стало много, и предательского развенчания, осмеяния героев было вдоволь и сейчас не перевелось, но вот теоретических исследований о предательстве нет. Обществоведы словно боятся стать гонцами, принесшими плохие вести (таких, бывало, казнили).
А мы не будем больше ждать и постараемся, насколько сможем обстоятельнее, в диалектике исторического и логического дать анализ феноменов предательства и верности в обществе прошлого и настоящего, а для этого: определить понятия «предательство», «предатель», «вероломство», «верность», «приверженец»; осветить черты предательства и отношение общества к нему в историческом контексте, в том числе – отечественном; рассмотреть воздействие харизмы и образности, стиля в культуре социума на на формирование как симпатий к противнику, так и верности данному социуму и ликвидации условий предательства; вспомнить наиболее крупных «наших» предателей во времена войны мира; выявить специфику влияния западного мира на советскую и постсоветскую российскую аудиторию; увидеть, как борьба в культуре, изобразительном искусстве может отражаться на идеологическом, политическом раскладе; реконструировать специфику, динамику предательства и верности в периоды перестройки и шедших за ней следом реформ; проанализировать этиологию предательства сегодня, псевдоморфозы в хитросплетениях общественной жизни.
Некоторые наработки по близким к означенным проблемам были осуществлены нами в осуществлении Российской научно – практической программы «Народы России: возрождение и развитие», в исполнении грантовых проектов федерального и регионального уровней, в монографиях «Наглядные образы в менталитете общества», «Наглядные образы как культурный феномен общественной жизни», в организованных нами международных конференциях «Образно -ментальный мир России: от прошлого – к будущему» с участием, кроме российских участников, авторов из Аргентины, Великобритании, Германии, Израиля, США, статьях о гражданине и гражданственности.
Глава 1. Определение понятий и мировая история далекого прошлого
Вообще предательство не должно трактоваться расширительно, поскольку во все века человеческой истории оно считалось самым ненавистным деянием и тяжким грехом, а предатели, несмотря на их всевозможные аргументы в свою защиту, были в числе главных подлецов. Предатель – подручный врага, сам становящийся врагом. Он злоупотребляет статусом «своего» и наносит тем, с кем вместе борется или должен был бороться за общую победу или жизнь, удар в спину. Он предает своих, то есть передает их или ключ от их жизни, свободы в руки врагов. Предатель как хамелеон меняет окраску, на самом деле он – чужой среди своих.
ПРЕДАТЕЛЬ – это субъект (лицо или группа лиц), считающийся страной, определенным сообществом своим (но де -факто таковым уже не являющийся) – тайно или явно переметнувшийся на на вражескую сторону, передавший своих сограждан, соратников или жизненно важные им секреты, тайны в руки врага со всеми вытекающими отсюда последствиями. ПРЕДАТЕЛЬСТВО – своекорыстное ради сохранения жизни, обогащения или иного материального благополучия деяние по смене своего окружения, Отечества, политического лагеря, наносящее таковым ущерб или приводящее их к разгрому, смерти. Образно говоря, это нанесение своим удара в спину, ради торжества врага, его победы. Предатель возможен там, где есть враг, не иначе. Он (предатель) и сам становится врагом (или сообщником врага). Здесь есть и более умеренный вариант проблемы, когда враг – не смертный враг, а конкурент на поле бизнеса или соперник (соперница) в любви. И предательство, как правило, тут тоже не антагонистического уровня, а значительно толерантнее. К этому вопросу тоже можно приступить. Но нас интересуют прежде всего антагонистический уровень.
История сохранила имена некоторых особо запомнившихся современникам предателей. Так один из них – персонаж из третьей книги «Истории» Геродота по имени Фанес, который попал в опалу при фараоне Амасисе Втором, приблизительно в 525 -523 г.г. до н. э. Этот Фанес бежал в стан персидского царя Камбиса и сообщил важную информацию о военных приготовлениях египтян (Геродот. История. Кн. 3 «Талия». Параграф 8). Геродот пишет, что Фанес указал и путь, которым персидское войско прошло долиной Нила и завоевало страну. Ктесий Книдский утверждает, что «мосты и прочие дела египтян» указал вражескому войску вельможа Комбафей, желавший стать одним их наместников Египта (Ктесий Книдский в изложении Фотия. Персика. Кн. 12 -13). Это были греки, но они были египетскими подданными. И изменили в пользу не греков, а общего с греками врага.
А в следующем веке нашелся другой запечатленный Геродотом антигерой – Эфиальт, сын Эвридема, предательски по отношению к трёмста спартанцам царя Леонида в 480 г. до н.э. указавший врагу (персам Ксеркса) в обход Фермопильского ущелья тропу через горы (Геродот. История. Кн. 7. 218, 224—225). И, быть может, спартанцы еще долго противостояли бы многократно численно превосходящему их противнику, но случилось что случилось.
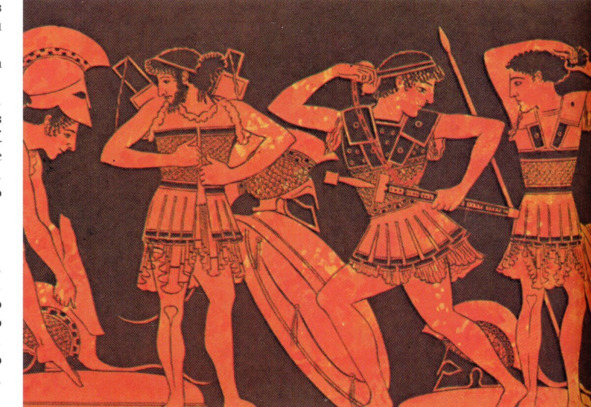
Герои Спарты, вазовая роспись
И спартанские войны вместе с самим Леонидом героически пали, овеяв память о своей борьбе вечной славой. Имя же Эфиальта стало нарицательным в обозначении предателя. Он и все здесь названные предали своих не под пытками, а по своей же воле.
Римляне тоже очень чтили верность. И трансформация республики в империю существенных перемен здесь не повлекла. В римских идеологических обоснованиях акцент сделан на верности воинскому долгу и дисциплине, а вовсе не на личной преданности императору. Так к антиримскому восстанию Юлия Цивилиса примкнули в 63 г. н.э. мятежные галлы, которые служили во вспомогательных частях римской армии. Подлое нарушение торжественной присяги покрыло этих галлов несмываемым позором. «Изменники среди изменников, предатели среди предателей, – отмечал Тацит, – будете вы метаться от тех, кому принесли присягу сначала к тем, кому присягнули потом. О, Юпитер, Сильнейший и Величайший, о Рима создатель Кверин!» (Тацит. История. Кн. IV. 59).
Имели место в римской армии и случаи дезертирства (чаще всё же в кризисные времена, но не обязательно). Дезертирство – еще не предательство, но путь к нему. Так в конце 2 в. воинство покинувшего ряды императорской армии некоего Матерна состояло из тысяч примкнувших к нему дезертиров, которые нападали на города и тюрьмы Галлии, Испании, выпуская заключенных и дальше пополняя так свои ряды. Геродот и наши современные авторы отмечают, что Матерн замахнулся даже августейшую роль императора, подготовив во время большого праздника убийство Коммода, но из зависти и алчности Матерна выдали его же соратники (предали предателя). И Матерн был убит, обезглавлен (Herod.1.10.CIL ХI. 6053; Михлаюк А. В. Перебежчики и предатели в римской императорской армии // Вестник Нижегород. ун -та. 2014. №6. С.69; Гаспаров М. Рассказы Геродота о греко -персидских войнах и еще о многом другом. М.: Согласие,2001). И весть, полезная врагу, конечно же, предательством являлась и считалась тоже. Предателей и дезертиров сбрасывали со скалы, травили львами, ненавидели и презирали, проклинали. Градации вины здесь, вообще -то, были. Кто -то сбежал из войска не в стан врага, «просто куда подальше», а кто -то – именно к врагу и значит потенциально готов поднять оружие на своих. Но и то, и другое считалось тяжким государственным преступлением.
Дезертиры и тем более – перебежчики – презренные существа. А еще есть, как известно, и шпионы. Шпионаж – тяжкое преступление, но тут шпион -иноплеменник не вызывает презрения, он служит своей нации и на войне как на войне. Шпион из соплеменников, предавший родину, род, народ, презренен. Свой шпион в тылу врага – «наш человек» вне зависимости от его национальности и гражданства. Для «них» он может быть перебежчиком, предателем, для нас же он – соратник. Значит «разобрался». Некое оправдание, попытки морального преодоления вековых «двойных стандартов» выражаются в том, что правда – «за нами», что «наиболее здравомыслящие» на той стороне додумались до этого.
Карая и презирая перебежчиков к врагу, государства и их армии с давних поощряли перебежчиков на свою сторону. Так римские власти, что на основании источников отмечается А. В. Михалюком, борясь с перебежчиками, предателями в рядах собственных войск, «поощряли переход на свою сторону вражеских воинов», причем считалось, что перебежчики наносят противнику даже больший урон, чем убитые. Не исключено, что такого мнения придерживались не только римляне. Перебежчики, предатели, лишенные пути к отступлению, воевали более отчаянно (Михлаюк А. В. Перебежчики и предатели римской императорской армии. С. 74).
Двумя веками позже Матерна, при римском императоре Констанции Втором служил в его домашней кавалерии некто Антонин. Но его не ценили, он очень разозлился, из -за чего и пошел на предательство, переметнувшись на сторону врага – Персии сасанидского царя Кашпура Второго. И сыграл ключевую роль в захвате и разграблении персидской армией в 359 г. римского города Амиды. Изначально он не был никаким вражеским разведчиком. но стал им, как пишет Аммиан Марцелин, передав персам важные разведданные (Ammianus Marselinus. Res Gestae. Kembrige. 1982. P. 18. 5.3; 19.9.8). Ценой предательства Антонин стал советником самого Кашпура, разбогател.
В 330 г. до н. э. Александром Македонским был раскрыт заговор против него желавших большего влияния и власти представителей македонской аристократии, в том числе – приближенного к молодому царю тоже молодого амбициозного военачальника Филоты и его отца Пармениола, телохранителя Деметрия и других ближайших лиц (Диодор Сицилийский. История Александра Македонского. М.: МГУ, 1993).
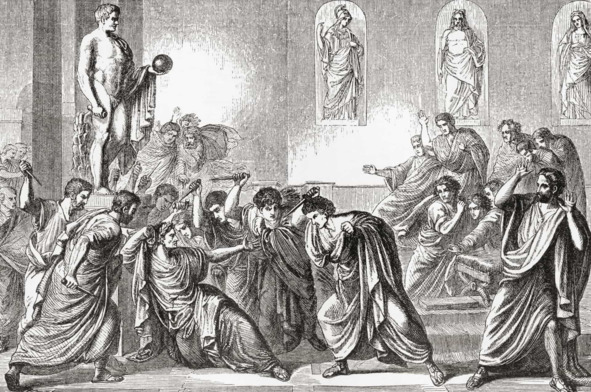
Цезарь и Брут с заговорщиками
А о Бруте и Цезаре многие знают со школьной скамьи. Марк Юний Брут – «первый среди молодежи», потомок знатного рода. После битвы при Ферсале 49 г. до н.э. вошел в ближний круг Гая Юлия Цезаря. Однако когда римские нобели, разгневанные единоличным в обход сената, решением Цезарем многих важных государственных дел, реальным или мнимым стремлением его стать царем, образовали группу заговорщиков, Брут вошел в эту группу, уверяя себя, что желает восстановления республики и смерти «Цезаря -диктатора, а не Цезаря -человека». И вот 15 марта 44 г. до н.э. по приезде 56 -летнего Гая Юлия в курию Помпея близ театра заговорщики напали на правителя. Цезарь не ожидал нападения, но отчаянно защищал свое тело руками от ударов кинжалами. Увидев же среди убийц Брута, Цезарь проговорил: «И ты, дитя мое!» С этим и умер, перестав сопротивляться (Светоний. Жизнь двенадцати цезарей // Светоний. Властелины Рима. М.: Ладомир, 1999. С.80). Так вот проявилась «сыновняя любовь».
ВЕРНОСТЬ – стойкая приверженность индивида, группы, сообщества своей стране, городу, нации, любимым людям, готовность и способность постоять за этот родной мир в целом или в отдельных проявлениям, несмотря на разного рода препятствия, соблазны и другие испытания. Это антипод ПРЕДАТЕЛЬСТВУ как отречению от родины, людей и человечности. Верный человек, группа, сообщество не тяготятся своей стойкостью, а часто даже дальше закаляются, вдохновляются ей. Нигде в словарях, энциклопедиях нет слову «предатель» точного антонима в виде существительного одним словом. На наш взгляд это это слово «приверженец». ПРИВЕРЖЕНЕЦ – верный сторонник. Он проходит через испытания, сохранив, закалив свои приоритеты. Даже слово «патриот» (патриотизм – греч. любовь к отечеству) сюда подходит меньше, поскольку применимо только в сфере отношений к стране, городу, полису, малой родине. Но неприменимо к какой -либо личности, идеологии, религии, стилю жизни и культуры. Даже в любви и дружбе иногда появляются «предатели», а вот «патриотов» пока не объявлялось
В военное время близким к предательству военным преступлением, неким если можно так сказать пред -предательством было и есть дезертирство. Как известно дезертирство – это самовольное оставление (побег из) войска, воинской части, уклонение от прохождения военной (или приравненной к ней) службы. По законам военного времени дезертирство часто карается смертью, как и предательство, хотя последнее как более тяжкий и подлый грех – чаще.
С древности и античности дезертиров убивали, вырывали языки, а в спокойные времена выставляли у позорного столба, били кнутом, брили голову, обряжали в грязные лохмотья. В Риме если не казнили, то лишали имущества и продавали в рабство. Не всех, конечно, удавалось изловить, дезертиры шли на ухищрения, включая побег в неизведанные земли, смену внешности и манер, социального статуса. В отличие от собственно предателя дезертир далек от цели нажиться, ему бы только выжить или не утратить имеющегося уровня жизни (он хочет быть ремесленником, даже батраком, но не бойцом, не рекрутом). Если с поля боя бежало целое подразделение, то римляне использовали децимацию, то есть казнь каждого десятого. В средние века тоже казнили, посылали в бой без кольчуг, доспехов. В России беглецов также казнили, выставляли на позорище, били шпицрутенами. В войну беглец немногим лучше, чем предатель. Но смягчающие обстоятельства могли быть учтены, хотя военный трибунал судит жестче гражданского суда (и ныне это так). Здесь в разное время были и ужесточение наказаний дезертиров, уклонистов от службы, и амнистирование их полное или частичное. Три дня самовольного отсутствия солдата или офицера в военное время и шесть дней отсутствия во время мирное (но враг -то ведь не дремлет), как правило, являются тем сроком, которым квалифирируют случившееся как дезертирство. Добровольное возвращение дезертира в войска, в сравнении с пойманными, всё же заметно облегчает участь виновного. Иногда и дезертиров продолжают любить близкие, но такая любовь всегда мучительна. Предательство и дезертирство есть полная или частичная победа в человеке эгоизма, а верность, преданность – альтруистична.
Примеров верности любимому или любимой немало в жизни и культуре – Данте и Беатриче, Петрарка и Лаура, Абеляр и Элоиза, Орфей и Эвридика, Тристан и Изольда, Петр и Феврония, Джахан и Мумтаз, Ромео и Джульетта. Верность эта включает в себя и неустанную заботу, и готовность к самопожертвованию. Жертвовали собой и исследователи из верности науке, особенно способной непосредственно послужить людям. Немец на русской службе, физик, друг М. В. Ломоносова Георг Рихман верил в полезные возможности электричества. И в этой связи он исследовал молнию. Во время одного из экспериментов, опасность которого он сознавал, академик был убит шаровой молнией. В первые советские года известный революционер и естествоиспытатель (ранее подвергшийся Лениным в «Материализме и эмпириокритицизме» резкой критике) ставил опыты по переливанию крови. Во время поставленного на себе опыта он погиб.

Гибель Рихмана во время опыта с молнией
Жертвы ради искусства не столь драматичны, как ради науки, но тоже по -своему существенны. Так ради поначалу призрачной мечты уехать куда -то далеко, посвятив себя живописи, успешную банковскую карьеру бросил Поль Гоген. Об этом С. Моэм написал один из лучших своих романов «Луна и грош». О беззаветном служении искусству Микеланджело написан роман О. Стоуна «Муки и радости».
Верность своему городу, поселению, району нам тоже хорошо знакома – Афины Перикла, Званка Державина, Москва Гиляровского, Плёс Левитана, Арбат Окуджавы, Коктебель Волошина, Монмартр Аполинера, Барселона Гауди, Ивановка Рахманинова, Гималаи Рериха, Витебск Шагала. А проявлений верности стране нет сил и перечислить – Польша Огинского, Россия Есенина, Турция Ататюрка, Италия Гарибальди и т. д.
В античной истории пример истинной приверженности Риму был явлен в 6 в. до н. э. Гаем Муцием Сцеволой. Он оказался в плену осаждавшего Рим этрусского войска под началом царя Ларса Парсены. И в подтверждение Муцием неприятия врага, беззаветной верности римским жизненным ценностям он протянул правую руку над пылающим жертвенником. Царь Парсена обомлел и, решив, что с такими противниками ему и его войску сладить невозможно, снял осаду и убрался восвояси. А лишившийся правой руки Гай Муций получил прозвание Сцеволы, то есть Левши (Маяк И. Л. Римляне ранней республики. М.: МГУ, 1993. С. 31).
Рожденная в раннем средневековье «Песнь о Роланде» содержит яркие сюжеты 778 г. франкской верности Родине, воинского долга в лице племянника Карла Великого молодого графа Роланда с одной стороны, и подлого предательства в пользу испанских мавров графа Ганелона – с другой. Предатель, обрекший на гибель в Ронсевальском ущелье арьергард франков во граве с Роландом, сделал всё намеренно. Роланд бился до последнего, пытался даже сломать свой меч, чтоб не достался врагу. Карл произнес над телом Роланде проникновенные слова: «Что граф Роланд погиб, но победил!» (Песнь о Роланде: старофранцузский героический эпос. М.: Наука, 1964. С. 123).

Песнь о Роланде, роспись
Константинополь по крайней мере дважды становился жертвой предательства, единоверцев или почти таковых по христианской вере. Задуманные изначально как акты защиты христианства против врагов его, крестовые походы стали свидетельствами подрыва морального и материального потенциала самого христианства. Во время четвертого крестового похода 1204 г. венецианцы не только не помогли своим военным флотом византийцам, но и предоставили этот флот иноземцам -крестоносцам для нападения на «второй Рим». 30 тысяч крестоносцев, напавших на Константинополь, были доставлены сюда на венецианских кораблях. И за городскими стенами оказалось много предателей из корыстной местной знати и торговцев. В итоге город пал и был разграблен. Еще большая и уже окончательная беда, также связанная с предательством, постигла Константинополь и всю Византию в 1453 г. Тогда император Константин 11 Полеолог, предвидя предстоящую осаду османами столицы своей империи, обратился за помощью к европейским государям, очень на эту помощь рассчитывал, но ничего не получил (Рансимен С. Падение Константинополя в 1453 году. М.: Наука, 1983). В самом городе некоторые аристократы, надеясь на благосклонность турок, сеяли раздор и смуту, что сделало достойную оборону стен города невозможной.
До девятнадцатого века включительно православный мир лелеял надежду вернуть Константинополь, но в дальнейшем это было осмеяно и забыто.