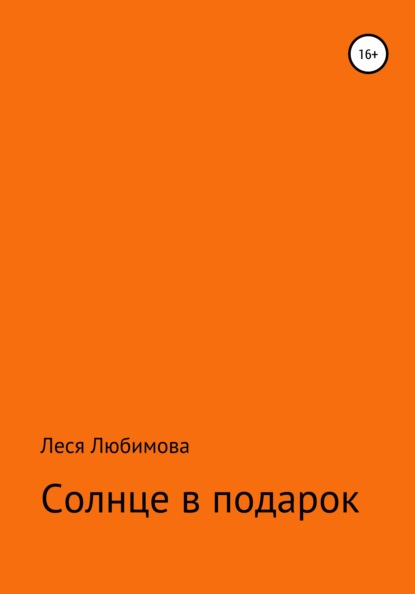Самое ценное во мне

- -
- 100%
- +

© Белоусова Е., текст, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Свет и тени
Женя никак не могла привыкнуть, что стуки, скрип, тени так быстро растут, так быстро обживают дом. Они обступали ее острова – рабочий и кухонный стол, диван, кровать. Стоило ей уйти, как неуют ложился на скатерть и плед, на синий ковер, на стены. Она храбрилась, громко хлопала дверью, включала свет.
Денежная беспомощность, торопливая злость на сочувственные слова, произнесенные некстати, не так. Первое время чувства доходили до Жени через заглушку, но все равно тревожили, теребили. Затем и это пропало. На новой работе знали двое – подруга, которая помогла устроиться, и Авросин.
– За сколько снимаешь? – спросил он, вешая мокрое пальто в прихожей. В руках держал зонт и еще не решил, можно ли раскрыть его на паркетном полу. – Можно?
– Да, конечно. Не снимаю. Наследство, – коротко объяснила она.
Авросин присвистнул. Хотел пошутить, но, глядя на Женю, в которой сломалось и не могло сложиться обратно обычное приветливое выражение, осекся.
Женя пошла на кухню найти штопор.
Просторная квартира была куплена родителями по ипотеке. Жене осталось доплатить миллион. Палатку родителей, разбитую по недосмотру инструктора в опасном месте, накрыло лавиной в прошлом году.
Она не была уверена, какие бокалы подойдут для его вина.
– У тебя красное или белое?
– Красное.
Достала новые. Авросин поставил бутылку на кухонный стол. В носу защекотало несерьезным, чем-то вроде засахаренной мяты или зефира. Слышала этот запах давно, в первую встречу, у лифта. Потом он пропал, или она перестала замечать?
«Пустая коробка из-под сладостей». – Женя вспомнила, как сегодня, в обеденный перерыв, девочки пробовали конфеты-ассорти, подаренные Авросиным, и спорили, кому достанется вишневая. Вишневая досталась ей.
В офисе Авросин слыл ловеласом. Цветок, открытка, плитка редкого шоколада или лакрица в прозрачном пакете – он был, казалось, сделан из сувениров, знаков внимания. Сыпал ими, не разбирая, зачем и кому. И все же он ей нравился. Может быть, тем, что одевался со вкусом. А может быть, праздной легкостью, которая была ему присуща и, как дымка, окутывала все близ него.
Между ними установился полудружеский, полушутливый тон. Авросин почти никогда не задерживался у ее стола, не задевал комплиментами. Оставлял короткие записки с рисунками. Смешные и незлые шаржи.
Она сама предложила выпить. Думала, откажется. Он согласился.
– Тогда у меня.
Сама удивилась: авантюра. Или осень.
По дороге домой смотрела поверх его уха на разряженные, в медальках листьев, деревья. Воздух готовился: то ли к дождю, то ли к снегу, то ли к грозе. Жене была непонятна природа, она никогда не знала, чего от нее ждать. Она сказала это Авросину, а он усмехнулся, пожал плечами.
– Я ничего не жду.
Руки и плечи оказались у него в веснушках, таких частых и светлых, что в полутьме превращались в золотую кольчугу. Звон дисков перекочевал в Женин сон и разбудил утром: она завтракала одна.
«Музыка», – вспомнила Женя. Порылась в прихожей. Наушники лежали рядом с обувным кремом. Ехала в метро и слушала Бетховена, чего не делала, наверное, со школы. Пальцы сами собой бежали по перилам, по капроновым коленкам, стучали по столу и клавиатуре – с новым звучащим смыслом: «Все устроится…»
Что устроится? Как устроится? Можно сменить работу. Снова заняться музыкой.
Легко заполнила давно висевший отчет. Удалила две старые папки. За делами не искала Авросина, но вечером вспомнила минувшую ночь и удивилась, что не поздоровалась с ним сегодня. Набрала сообщение и спустилась в метро. Снова шел дождь.
Открыв дверь квартиры, замерла: тени лились серебристыми волнами, как вода. Не включая света, поставила «Лунную сонату». Сняла пальто и ботинки, села на стул напротив стены и смотрела, пока дождь не кончился.
Авросин приезжал к Жене еще три или четыре раза. Спроси ее, изменились ли их отношения, она бы не поняла: не было отношений.
– Ла-ту-к. Одна «ка» между прочим, – сказал Авросин во вторую встречу. На четвертой извинился, что разбил бокал, и обещал подарить новый. Ей бы ответить «на счастье», но не ответила.
С Игорем познакомилась на свадьбе подруги.
– Обрати внимание. Крёз! – указала невеста.
Крёз был высоким, почти бестелесным, а по пятам за ним ходила тоже высокая девушка в красном платье. Не успев окрестить ее подходящим прозвищем, поймала взгляд. За несколько секунд блондинка превратилась в сто лет назад потерянную однокурсницу.
Подхватив Крёза, уже летела навстречу.
– Знакомься, Игорь, мой друг.
Он стоял перед Женей уже не тенью в конце зала, а другом друга, почти своим. Речь зашла о театре: оказалось, могли сидеть на соседних рядах на недавней премьере. Однокурсница отошла, пообещав принести еще шампанского, а они продолжали говорить, уже о кино.
Никакой развязки между Женей и Авросиным не было, как и не было завязки. В четверг она отказалась от предложения проводить до метро. Авросин ничего не спрашивал и, как прежде, ухаживал за коллегами. Тон его, шутливый и доброжелательный, не менялся. Два новых бокала в картонной упаковке оставил на столе с запиской: «За причиненные разрушения».
Игорю было двадцать семь. Он работал заместителем директора банка, любил конную езду и музеи. Начитан, чуть-чуть нудноват. Мысль завести семью пришла ему отдельно от Жени, как самоцельная мечта или план. До Жени у Игоря было несколько серьезных романов и столько же несерьезных. Отношения заканчивались, как бы высохнув, потеряв блеск, и, бесцветные, тяготили, отвлекали от работы, наступали на пятки будущему. Женя не наступала, держалась независимо, но рядом. С ней было легко. В сентябре он сделал предложение.
Свадьба переставила Женину жизнь: долги и нелюбимая работа остались в прошлом. Глухая офисная зима понемногу стиралась из памяти. Подвернулся интересный проект, Женя наконец устроилась по профессии. Бокалы «за причиненные разрушения» затерялись при переезде.
Она встретила Авросина в метро, по пути из бассейна. Обычно ездила на машине, но сегодня карта была сплошь красной. Знакомое серое пальто. И новый, синий, шарф. Спросила про работу – Авросин покачал головой. Все гниет. Пошли вместе по переходу, продолжая обсуждать офис. Может быть, чаю?
На улице замешкалась. Густое темное небо наваливалось, плыло, подминало под себя улицу. Плотно стянутые фасады держались сановито, но казалось, если тьма надавит сильнее – осыпятся, картонные.
– Ты знаешь что-нибудь поблизости?
Авросин кивнул и уверенно зашагал вперед.
– Кормят здесь отвратительно, – сказал он, толкая зеленую дверь.
– Дорого. – Снял с Жениных плеч пальто, отряхнул шарф.
– Но атмосфера!
В небольшом зале, соприкасаясь спинками стульев, стояли разномастные столы. Поблескивающие стены сначала показались Жене разукрашенными стеклом и камешками, потом пригляделась – ключи. Людей почти не было.
Заняли черный стол с белой эмалевой рыбой. Хвост ее касался руки Жени, а голова – локтя Авросина.
– Так что ты? Счастлива и беззаботна? – спросил, подзывая глазами официанта.
«Да, – хотела ответить Женя. – Да, все отлично», – хотела сказать она, но поняла, что соврет. У вранья, как говорила мама, есть вкус. Металлический, горьковатый, будто под языком холодный латунный шарик. Если человек много врет, он медленно превращается в истукана.
– Ты спросил, а я вспомнила страшилку, которую мне в детстве рассказывали. Странно, да?
Он засмеялся:
– Неужели я такой страшный?
Она еще ничего не сделала, даже заказа: только сидела с ним за одним столом. Но уже вернулся прежний тон, слабый, но узнаваемый – сладкий, зефирно-мятный запах.
– Закажем солнечный чай. Солнечный чай нам. Самый солнечный!
Веснушки блеснули на ладонях. «Если он предложит, я поеду к нему», – поняла Женя.
– Поедем ко мне?
Кивнула.
Авросин жил в двухкомнатной квартире. Ремонт в подъезде, незаконченная, но отделанная прихожая.
На кухне четыре стула, квадратная черная ваза.
– Располагайся, – предложил он. Женя села. На черной эмали увидела свое отражение. И только в этот момент испугалась.
Еще немного, подумала она, и столкнутся, и опрокинутся. Два набора вещей, предметов, пространств. И останется нагромождение сломанной музыки, искалеченные, как перетянутые смычки, минуты. Почему я пришла сюда? В знакомое. Нежеланное, не свое. Повторение.
Торопливые и непонятные разговоры по телефону, дни, когда мама надолго уходила гулять, на маникюр, на укладку, всегда легко одетая, всегда с одной и той же прической. С вазы смотрела угловатая домашняя тайна. Впервые, не уворачиваясь, не мерцая, пришла целиком и просила – смотри.
– Нет, я передумала. Поеду домой.
Авросин пожал плечами. Пока ждали такси, успел налить воды и поцеловать в щеку.
Женя вдруг вспомнила, когда видела ее точь-в-точь такой же, в похожей яркой помаде. В тот раз отец стоял полуодетый, в одних брюках, а мать была в платье с высоким горлом, уже на каблуках. И у нее горела щека. Мать заметила Женю и закричала, чтобы она собиралась, – они уедут из этого дома. Женя ушла в комнату и собрала вещи в коробку, потому что не могла найти чемодан. Они не уехали. «Папа, – сказала мама, – очень нас любит».
Образы накладывались, мешались, теряли границы: переезд, общие ужины, походы в кино. Маленькие горькие горошины, в них посеянные, прорастали с невероятной быстротой, пускали корни, распускались широко и алчно. Тяжесть, неудобство. Распустившись, набравшись цвета, широко и вызывающе смотрели, придавливали, не давали дышать.
– Я открою окно? – спросила она и, не расслышав ответ, нажала на кнопку.
Женя не могла понять, что это: болезненный поворот воображения или вдруг ставшая очевидной явь.
Мы лжем. Я лгу. В горле и носу кололо, воздух нес колючие искры.
Он хотел жениться на ком-нибудь. Я хотела расплатиться с долгами. Такси подъехало к дому.
Надо сказать ему.
Муж вышел из темной гостиной.
– Привет! Не промокла?
Женя покачала головой.
– А глаза красные.
– Ветер. Что со светом?
– Ничего. Сейчас покажу. Иди сюда.
Женя медленно разулась и сняла пальто. Как начать? Пошла вслед за Игорем в комнату. Ковер нарезан на свет и тьму.
– Слушай, нам надо…
Скользнула взглядом стене. «Не скажу, – поняла она, – никогда».
По белой стене лились знакомые тени.
– Это от окна, – почему-то шепотом сказал Игорь.
В комнате темно, а на улице – фонари, витрины, фары и, тише всего, луна. Высокое, почти от пола, окно собирало дождевые капли. В комнату бросало оттиск. Тени танцевали невесомо, бестелесно: мимика без лица. Красота убеждала, что задержать и запутать ее в фотопленку, в любой искусственно остановленный момент – убить, и даже хуже, чем убить. Нельзя. Не надо.
– Ты что-то хотела сказать?
– Здесь должно стоять пианино.
Капкан
Ванна наконец наполнилась. Олег завернул кран и прислушался. В комнате тишина. Может быть, спит или вышла на балкон? Звук закрывающейся двери он бы услышал – хлопает по ушам. Но нет, только наверху немецкая новостная речь, а в соседнем номере играет ребенок.
Он сидел на краю ванны, в джинсах, с босыми ногами, пробовал температуру. Сначала было слишком холодно, потом слишком горячо. А сейчас кажется, что слишком много. Много налил воды. Сядешь туда, водопадом нарушишь края.
Подумать только, приехал сюда не один. Поймал себя на этой мысли, когда, приобнимая Лизу, выходил из аэропорта. Русые волосы, запах мандарина. За день до вылета не знал ни ее лица, ни звука и цвета этих волос.
Они встретились в баре, куда Олег зашел отметить начало отпуска. Билеты на самолет, купленные полгода назад, распечатал накануне. С удовольствием думал, как соберет небольшой чемодан, сколько потратит на выпивку и как обустроит ближайшие дни. Он любил планировать. Может быть, поэтому работа финансового аналитика была, упрощая, любимой.
Толкнул синюю дверь, кивнул бармену. Виски здесь наливали в низкие стаканы с толстым стеклом и ставили на зеленые пробковые подставки.
Кирпичная стена и грязно-желтый диван. Она сидела напротив, как точка провала, изменения пространства, другой кривизны, другой фактуры и цвета. Живая на мертвом. Ничего необычного не было в этом моменте, но – было.
– Лиза.
Сказала и протянула руку. В лице удалось ухватить широкие брови, серые, как туман. Немножко пьяна, читала лабуду.
– Вы случайно не занимаетесь цигун?
Так и сказала, не склоняя: цигун.
– Да, – соврал Олег.
– А я нет. Но вот в книжке говорят – необязательно. Главное – путь…
Включили музыку, и Олег не узнал, что главное. «Не суть», – отмахнулась Лиза, а он услышал – «несусь».
И действительно, понеслось. Из бара шли по мосту, она то и дело норовила свалиться в воду.
– Хочу на море.
– Поедем завтра?
В аэропорту, уже на паспортном контроле, Лизе стало плохо.
– Ты что?
Оказалось, упал самолет, она услышала обрывок новостей, расстроилась. Потом в гостинице истерила: попросила сменить покрывало. Оно было оранжевое, а она просила зеленое. Где возьмешь зеленое? А она настаивала – зеленое. В конце концов сняли рыжее, оставили кровать незастеленной. Да и зачем оно было нужно, покрывало, когда ночью и днем, двое суток, она была с ним, целиком с ним, его, вот тут, у лба, во лбу, вся его, и утром еще, когда она спала, а он нет – близко.
На кране собирается капля. Олег протягивает руку, бусина не выдерживает давления, расплывается в жирный эллипсоид, падает в ванну.
Кафель в гостинице, конечно, белый. Почему они всегда так делают? Белая, на крылья насекомого похожая занавеска. «Скрючилась», – думает о ней Олег, хотя знает, что так о занавесках не говорят. Зеркало – большое, но повесили неудобно. Ей, чтобы увидеть себя в полный рост, приходится вставать на табуретку. Мелкая.
Мысли о ней всегда запускали одно и то же перемежение планов и сцен. Сначала она появлялась отчетливой тенью, почти осязаемой, такой же, как тени предметов вокруг. Потом декорации расплывались, и она шла, перепрыгивая их обломки, к его межбровью. И сейчас шла, размером с ладонь, и, легче перышка, легла на его лоб.
«Она поехала просто потому, что представился случай», – решил он, но, оглянувшись на свое отражение (худой и хлипкий, и солнце не отогрело – как будто бумажный), не смог уговорить себя раздеться и лечь в ванну.
Застывший воздух, кафель, свет без окон. Нет, надо просто пойти на пляж, там солнце, жара, соль, там кричат, тесно наступают – звуки, коврики и мячи. Дети – не через стенку, рядом – почти ползают по ее ногам, чужие, они почему-то любят Лизу, и, пока она спит, какой-нибудь ребенок окажется обязательно рядом, а потом ищи ему родителей.
Олег вытащил затычку. Открыл дверь в комнату. Белая кровать. Как пустой лист? Или что там бывает пустое, тревожное, без ее загорелого теплого тела, без солнца, разлитого не на одного? Пусто было уже вторые сутки, но он пытался уговорить себя, что Лиза вернется, возьмет ключ на стойке и зайдет, ляжет спать, и будет это днем, потому что она после обеда спит, как ребенок.
Вспомнил: когда был маленький, брат пугал огромной ящерицей, золотой и ядовитой, которая живет в норе в саду и показывается в пруду. Она размером с собаку, клялся брат. Олег не верил, но, заходя в комнату, не мог не ждать, что увидит золотую ящерицу на кровати, с раскрытым ртом, драгоценную и смертельную. Так же было и с Лизой. Страшно хотелось ее увидеть. И еще понять, каким и как она видела его. Пусть бы пришла и сразу – прозрачная, такая, чтоб разглядеть в стеклянной голове понятным почерком составленные сводки.
Попытался посмотреть на себя ее глазами, но споткнулся, поняв, что не знает, откуда смотреть. Координаты ее мира были ему неизвестны. Была ли она умна? Избалована? И вообще – была ли? Он перебрал детали, удивляясь, что запомнил. Кольцо на мизинце – то ли стекляшка, то ли бриллиант. Когда спросил про любимое вино, сказала название, которое он не слышал и которого не знали и в магазине через дорогу. Жалко, не записал, теперь не вспомнить. Говорила что-то про университет, но он не уточнял, какой – гуманитарная специальность. Вспомнил чемодан: десятки бирок, дорогой бренд.
– Много путешествуешь? – спросил.
– Ты про чемодан? Одолжила.
Расспрашивала, и все о ерунде, но так, что хотелось рассказать: о брате и цирке, о даче, о том, как строил воздушный шар. «А ты, значит, мечтатель, – своровала из его тарелки картошку. – Так сразу не скажешь».
Вчера долго собирались на пляж. Олег пошел первым: «Куплю фруктов». «Иди», – рассеянно расчесывала волосы. Решила ли она тогда? Олег уже искупался и загорал. Посмотрел на часы, еще без беспокойства и, кажется, без всякой цели. Отметил, что прошел час. Море было в меру тихим, просторным, вольным, пока не запруженным туристами – свежим. Кожа в холодной мелкой капле после заплыва нагревалась. Где она? Пошла в магазин? Заболела? Читает?
Начало припекать. Песок больше не лип к коже, еле слышно пролетала слабая песчаная пыль. Закрыл глаза, чтобы вздремнуть, но солнце будто проникло под веки и поселилось пятном на внутренней стороне затылка. Пятно ширилось и светило, прогоняло успокаивающую внутреннюю тьму. Олег потянулся рукой за кепкой, не успел, в этот момент резиновый мяч упал ему на затылок. Золотое пятно, подскочив, рухнуло ниже горла, куда-то между ребер – отозвалось там колокольным языком.
Это был болезненный толчок под дых, боксерский удар от неожиданного противника и в то же время – цикада и трель. Олег проснулся. Кожа на руках покраснела и ныла, кружилась от перегрева голова. Решил вернуться в номер. Заодно узнать, что там у Лизы. Нашел на белой кровати, застеленной горничной и потому притворившейся новой, записку. «Я решила уехать, не волнуйся».
Оставила изрисованный гостиничный блокнот. Перелистал. Стишки (не разобрать из-за почерка) и цветные каракули (привезла карандаши): солнце, похожее на картофелину, цеппелин на страусиных ногах.
Вечером не выдержал: совсем по-мальчишески порвал и сжег на балконе. Было что-то обидное в цеппелине, но особенно в картофелине.
Олег сел на кровать. Был бы сейчас перед ним этот блокнот, не сжег бы. Уничтожив, он понял это сейчас, – проиграл. Надо вернуть. Записать, поверх того, что там, все свидетельства ее преступления, подлости, яда. И это не поздно, нет. Олег представил, что кровать, на которой он сидит, – белый лист, а сам он – симпатические чернила. Проступят, как только он догадается. Ведь если не через слова, то как доказать, что она была, что расплывалось и соединялось над ней пространство, что пугает ее оранжевый цвет и что брови ее – туман и чад.
Раздается скрип. Открывается дверь. Лиза кивает и кладет на стол блокнот, голубой, с золотой хитрой ящерицей. Ящерица трогает лапкой воздух за границами бумаги, будто замыслив побег, но, прижатая ее мизинцем, не может уйти.
Чужая речь
Интересно, а если бы мама не умерла, он бы не рассказал? Так и жил бы дальше на два дома? А Надя осталась бы дочерью половины экрана и никогда не поняла бы, что живет в таком тесном пространстве, и только чувствовала бы, что давит, и не знала, что так нормально: ведь это кино.
Слева – насупившийся, примелькавшийся диван и мама. В халате в зеленый цветочек, штопает его носки. Слюнявит нитку, чтобы продеть в ушко. Справа, отделенная условностью, его любовница – японка, худая, как бамбук, собирается на прогулку. Примеряет маленькую синюю шляпку. Отчим входит к маме, надевает носок, проходит как ни в чем не бывало через разделительную полосу. Приобнимает японку, щекой касается ее щеки. Крупным планом их лица. А теперь только лицо японки. Счастливое.
Микуро приехал в августе.
– Я ваш брат.
Очень изящный, с почти женским подбородком, Микуро ничем не выдавал сына своего отца. На четыре года младше, наверное, еще ходил в начальную школу в Саппоро, когда она начала называть отчима папой.
В первый же вечер он купил настольную лампу и высадил на маленький стол свой гарнизон: Достоевский, Чехов, Толстой.
– Надо утопить в языке, – пояснил Наде, когда она спросила, зачем ему столько книг. – А кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
– Я выросла, я учительница.
– А хотела?
«Наверное, проходит прошедшее время», – подумала Надя. Хорошо бы тоже повторить времена. Всего три: прошедшее, настоящее, будущее, но какая наука.
– Это глупо.
– Мне интересно услышать. Если невежливо, я понимаю. Но мне говорили, русские открытые.
– Я не открытая.
И закрывалась – за дверью.
Когда его запас книг иссяк, он отправился исследовать городские рынки. Принес полное собрание Панаева; в другой раз – Бенедиктова. Но больше всего радовался старому, дореволюционному Гоголю. Ходил с ним на голове по квартире, как фокусник, и смеялся: «Нос не убежал».
– Я собираю язык, а потом пойду в университет.
Язык он собирал в клетчатый блокнот, загонял в квадратные кавычки звуки.
Начался учебный год; Наде, кроме обычной нагрузки, дали классное руководство. Сидела в школе до девяти. Приходила домой и видела за закрытой дверью тонкую полоску света. Не заглядывала, но знала: включил лампу, окружил себя светлым защитным пятном, срисовывает, как картину, аккуратно и точно, прописные русские буквы с учебников, «чистописные».
Может, японка и не худая. Толстая. Крашенная в блондинку. В круглых очках. Без очков. Неважно. Вернуться к экрану. Новая серия: теперь по левую сторону мама и отчим, гуляют по парку. Он срывает ветку сирени, дарит маме. Слева – больница, простыни, врачи. Японка берет на руки ребенка. Тот истошно кричит. Отчим слышит, а мама нет. Машет рукой, посылает воздушный поцелуй. Мама садится на скамейку и смотрит на небо. Отчим перелезает через кусты, снимает разделительную полосу, ставит ее обратно, отряхивается, заходит в палату. Дарит Той сирень, берет на руки Того. Застывает. Титры.
В декабре, как нарочно, в школьные каникулы, Надя заболела гриппом и сидела с Микуро дома.
– Зачем ты ничего не ешь? И не пьешь.
– Пила. Чай. Закончился уже.
Микуро приподнял круглую крышку.
– Врешь. Полон половину.
– Не вру. Смотри. Пустой.
Надя наклоняет чайник. На секунду они застывают над столом, как будто ожидая, что из носика выйдет ответ.
– Чаинки. Если чайник полон, не всегда можно пить. Иногда носик забивают чаинки.
Микуро уходит и возвращается, приносит хурму, солнце на белой тарелке.
– Красиво, да?
– Дрессировщицей. Я хотела стать дрессировщицей, – сдается Надя.
– А я поэтом. Или режиссером.
Через несколько дней Микуро собрался на прогулку в городской парк. Закидывая в бездонный рюкзак термос, спросил: «Пойдем?» И Надя, в первый раз после болезни, вышла из дома.
Брели по длинной аллее, мимо детских площадок. Он шел медленнее, чем привыкла ходить она. Остановились на набережной. За спинами оставалось кольцо обозрения. На Островах, говорил он, недостаточно говорят. Меня называют болтливым, говорил он, люди звали даже чуть-чуть дураком, немножко идиотом. Камушки речи он проглатывал, не замечая. Рассказывал о Чехове, а Надя пыталась вспомнить, читала ли то, о чем он рассуждает, и вспомнить не могла: оттого ли, что вовсе не читала, или от языка, в котором и знакомое становилось неузнаваемым. Микуро достал термос.
– Сладкий. Без чаинок.
Дорога домой тоже была с ним, как язык, – неузнаваемой.
– Знаешь, с тех пор как он уехал, я все смотрю как кино. Мне даже странно слышать свой голос в этом кино. Я только в прошлом могу взять и вытащить что-то настоящее, что происходило, нет, происходит, по-настоящему. Я не видела. А теперь вижу. Понимаешь?
– Зачем ты с ним не говоришь? Он любил тебя.
– Любит, – механически поправляет она и плачет. – В настоящем… времени… я люблю… он любит… она любит.
И голос, и щеки у нее в слезах. Микуро кивает.
– Скажи ему. В будущем.
Тройка
Как встать? Как выйти из квартиры? Никак. Никак. Никак. Ответ был ясный, цельный, тяжеленный. Максим не стал предпринимать попыток. Так и пролежал часа три, игнорируя будильник и звонки с работы. Эти попискивания были что тонкие лески, которые уходят в воду на метр, два, десять, но ничего не знают о километровых впадинах и тех существах, которые там обитают.
Максим чувствовал себя одним из тех глубоководных чудовищ, о которых недавно прочел глупую статью в интернете «Цари тьмы». Только дебил мог бы назвать их царями. Там были уродцы с раздутыми головами и громоздкими клешнями, там были черви с щетинками на лопастевидных придатках, там были плотоядные кораллы, несущие на каждом своем отростке мешочки семени для размножения.