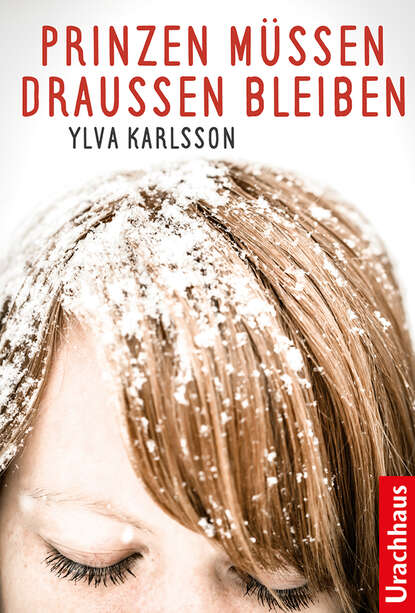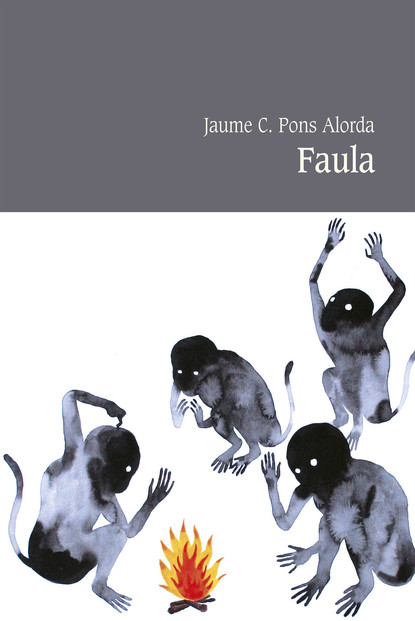Самое ценное во мне

- -
- 100%
- +
Максим лежал под белой чистой простыней на двадцать седьмом этаже нового дома, нового настолько, что в лифтах не сняли картонные щиты, защищавшие нежные зеркала от неосторожных царапин ремонта. Но, несмотря на высоту, несмотря на новизну, Максим лежал на дне океана, испытывал на себе его мощь, его злость, его смерть. Вы готовы, дети? В голове некстати заиграла мелодия из «Спанч Боба». От нее стало еще хуже: будто килотонны воды вмиг превратились в мочу.
Еще три недели назад Максим был энергичен и, поднимаясь на лифте по пять раз в день и спускаясь на нем, просто так, из баловства, немного из нарциссизма, отгибал картонки в лифте, чтобы посмотреть на непыльные, ясные свои глаза. Глаза свои ему тогда нравились, голубые, аки море.
А сейчас он не то что не находил в себе сил совершить закономерный спуск на работу, но с трудом наблюдал даже собственное дыхание, и каждый выдох и вдох тяготили его, как работа, как налоги, как серое небо за окном. И белые чистые простыни, которые вчера казались дружелюбными, сегодня были недружелюбны к его телу, и от соприкосновения с ними он чувствовал и зуд, и грязь, и бессилие.
Спустя пару часов, когда первое оглушение спало, Максим попытался пошевелиться. У него получилось сесть, надеть брюки и встать. Последнее оказалось лишним: вертикальный мир был враждебен гораздо больше, чем горизонтальный.
Вернуться в кровать значило бы потерять завоеванное, к тому же кровать хранила слишком много запаха и формы, поэтому он пошел на компромисс: сел. На полу он почувствовал себя лучше.
Мир приобрел новую перспективу. В нем появилось что-то приятное, что-то интригующее. Стало видно изящную, немного кокетливую ножку дивана. Максим вспомнил, как впервые наткнулся на крупную фотографию этой ножки, листая бесконечные интернет-каталоги мебельных магазинов. Тогда она, как сейчас, пробудила в нем интерес и любопытство. Возможно, именно из-за ножки он купил и диван, и идущий к нему журнальный столик, и гармонирующие с ними светильники. Не успев до конца додумать эту мысль, он заметил проездной, еще не потерянный, но, вполне вероятно, потерявшийся бы, если бы не смена ракурса.
Максим не ездил на метро. Ему никогда не нравились скопления людей, а с началом ковида этой причуде можно было перестать искать оправдания.
Проездной оставил кто-то из недавних гостей. Оля, Ира, Маша. Наверное, одна из них. Интересно, подумал Максим, значит, она приехала на метро и вернулась на такси? Или просто носила проездной с собой на всякий случай, так что и не заметила пропажи?
Оп потянулся за проездным и, взяв в руки, стал рассматривать, будто ожидая, что на нем будет имя владельца. Но нет. «Тройка» ничем не выдавала себя. Куаркод с одной стороны и белые лошади – с другой. Животные резво мчались вперед, оставляя позади синюю даль. Они тоже, подумал Максим, бегут по дну океана, как я раньше не замечал.
Ему показалось забавным, что «Тройка» смогла зацепить и понести его мысли, еще минуту назад неподъемные, куда-то вперед, к сравнениям, к мечтам. Может, обзвонить девочек? Сказать, что вот убирался в квартире и нашел. И может, случится разговор, не короткий, не формальный, а настоящий. И мысли станут еще легче, и пройдет голова. И станет тепло.
Сначала набрал Оле, но у нее было занято. Сбросив, Максим занервничал: что он делает? Так ли ему нужно знать, чей это проездной?
Но, не дав ему шанса передумать, телефон зазвонил сам. «Маша», – высветилось на экране.
– Привет.
– Представляешь, как раз хотел тебе звонить.
– Все так говорят.
– Нет, честно.
– Ладно, я что хотела спросить. Я у тебя не оставляла…
– Проездной? Да, я как раз прибирался, нашел.
– Не, не проездной. Брошь такую, с русалкой.
– Сейчас посмотрю.
Максим отстранил телефон от уха, будто это могло помочь ему лучше разглядеть комнату. Полки с книгами, растения в бетонных горшках, пустая рабочая поверхность кухни. Он зашел в ванную. Шампунь, полотенце.
– Нет, слушай, нет.
– Ладно, наверное, у брата забыла.
– Все-таки интересно, что ты позвонила. Я вот держал в руках «Тройку» и думал: может, Маша забыла?
– Да я «Тройкой» вообще не пользуюсь. Только такси. С ковидом этим, сам понимаешь. Настроение сегодня отвратное такое, думаю, нарядиться, что ли. А броши нет. Сам как?
– Похожее про настроение.
– Короче, ладно, сил тебе там, а я пошла спасаться. Попробую глиттер на глаза.
– Фотки присылай!
Он еще немного послушал гудки. Вспомнил, как они с Машей танцевали здесь. Она положила голову ему на плечо, волосы ее пахли апельсином. Вспомнил, как он хотел что-то сказать и засмеялся, услышав свой голос и поняв, что в этот же момент что-то решила сказать и Маша. Первые слова фраз смешались, превратившись в неразличимое скопление звуков…
Телефон зазвонил снова.
– Звонил?
Связь была нечеткой, голос накладывался на шум города.
– Не оставляла у меня «Тройку»? Нашел, думаю, чья.
– Нет, нет, моя при мне.
– Ты никогда ничего не забываешь?
– Если только специально. Ты как, голос убитый какой-то?
– Да приболел что-то.
– То самое?
– Непонятно пока.
– Ну аккуратно давай, сообщай, как самочувствие. Мне пора спускаться, на связи.
Максим положил трубку первый. Как они в последний раз расстались? Он попробовал вспомнить, какой она была. Синий свитер, длинные сережки. Темное каре, волосы убраны за уши. Трогательные, оттопыренные уши. Утром она быстро оделась и, не дождавшись кофе, полетела на работу. Она работала в «Роскосмосе», их на карантин не переводили.
Остался всего один номер, номер Оли. Он не был забит в контакты, так что его пришлось искать в переписке. Глупо как-то, подумал Максим, можно было бы просто всем написать и получить короткое нет, а он звонит, слушает их голоса, как попрошайка, собирает их «привет» и «не болей».
Оля взяла трубку с шестого гудка. За это время он попытался вспомнить, из-за чего они все-таки поссорились. Вспомнил, как она кричала, выходя из такси, что он мудак. И подумал, что она не ответит.
– Привет, – сказала она, и голос у нее был уставший.
– Знаешь, я тут эксперимент устраиваю.
– Какой же?
– Звоню по телефонной книге всем подряд и задаю идиотские вопросы.
– А, теперь моя очередь. Ну, зачет. Какой вопрос на меня запасен? Или это импровизация?
– Предположим, у меня в руках «Тройка». Не теряла ли ты свою?
– Слушай, вполне возможно. У меня их целая туча, одни с деньгами, другие без. Вчера ездила в банк, пришлось класть, хотя вроде бы недавно пополнила.
– То есть твоя?
– Ну, может быть. Я бы забрала, да. Это было бы очень даже здорово, только я болею. Ну как болею. Ни температуры, ничего такого, просто очень все достало. Хочешь, приезжай? Заодно проездной привезешь. И отпразднуем вместе.
– Да я… Хотя да, слушай, я бы мог бы.
– Ну класс, жду.
Максим вызвал такси, быстро оделся, взял из холодильника вино и сыр, так кстати припасенные. Спускаясь на лифте, он по привычке отогнул картонное заграждение. На секунду ему показалось, что глаза его стали зеленее, но он сморгнул наваждение, нет, нет, голубые, ясные. Он снова себе нравился.
Невеста
По вечереющему саду гуляют тени, но ягоды смородины не блекнут – к их парадному цвету разве только прибавилось разбавленной молоком синевы. Гроздья черной и белой так и просятся в руку.
«Не надо, платье светлое, сейчас испачкается», – уговаривает себя Аня, но уже идет вдоль дощатого забора и собирает азартно, как в детстве, смородину в ладонь. Из открытого окна слышно, как звенят приборы, кто-то смеется, хлопает дверьми. Реальность прочна. Но стоит опустить взгляд на ягоды, и звуки стушевываются, уступают явь сну.
Витя выходит на террасу. Ему хочется то ли улыбаться, то ли плакать, то ли – это самое верное – бесконечно танцевать. Кузнечики стрекочут до смешного пронзительно. Аня замечает Витю и машет, мол, подходи.
– Будешь?
Он берет несколько ягод.
– Мне все здесь как-то странно.
– Если хочешь, пораньше уедем. Я могу сказать, что у меня работа. Хочешь?
– Нет-нет, не обращай внимания, так, погода, наверное.
– Уверена?
– Да.
Ане двадцать три. После университета искала работу – устроилась ассистентом в архитектурное бюро. Думала, начальник будет старый хрыч. А оказался – Витя.
Два дня невеста и все никак не может привыкнуть к взрослому торжественному слову. Невеста. Они успели договориться, что свадьба будет после Нового года. Воображение осваивало – снег, загс, пышное платье, мантилью. Но и легкие мысли, и более практичные планы только чуть обретали фактуру – и тут же таяли в летнем воздухе. И даже поездка к друзьям была размытой, с разной плотностью краски, как плохо написанная акварель.
Джедай, хозяин дачи, сидит во главе стола: бутылки ставьте сюда, штопор, куда подевали штопор? Леша, у тебя есть тарелка? Девушка Джедая, тощая блондинка с бриллиантами на каждом пальце, только пожимает плечами, но штопор находится, тарелки приземляются – стол собирается сам собой.
– А я не могу сказать, что верю, но признать, что в мире может быть что-то, не постигаемое умом, необходимо.
Джедай, разобравшись с тарелками, повернулся к Вите и ведет теологический спор. Они с Витей поступали на философский. Витя перешел после первого курса на архитектурный, а Джедай два года сочинял трактат, потом плюнул, занялся бизнесом. Держит уйму торговых точек по Москве – корм для домашних животных.
– И как быть с этим непостижимым, а? Ведь не назовешь, не постигнешь – так и не будет его.
Голос Вити режет Ане слух. Она поворачивается к соседям. Леша, бородатый гик, рассказывает, как поднимался с Ингой на Килиманджаро. Там не холодно, но из-за недостатка кислорода немеют пальцы. Показывает фото на телефоне: темнота, только фонарики и начало рассвета.
Инга качает головой.
– Хвастаешься, как маленький.
Она чуть старше Ани, нет в ней никакой особой красоты, говорит глухо – но всем сразу слышно. Вместо обручальных золотых они с Лешей носят белые индийские кольца.
– Леша говорил, ты ходишь на хатху? Что это дает?
– Свободу.
Без тени иронии. «Чудная», – думает Аня про Ингу. Леша как-то пошутил, что жена так долго занималась йогой, что ушла от него в нирвану. Ане не хочется ни пить, ни есть – взяла апельсин и долго очищала его. Делила на дольки и, разделив, не съела. «А люблю я его?» – подумала вдруг. И сама не поняла: об апельсине или о Вите.
– Вить, я выйду на секунду.
– Подожди, я с тобой.
Вышли в сад. Она представила: уже. Террасу обняли гирлянды праздничных огоньков. Красные, зеленые, желтые. На месте кустов с волшебными ягодами стоят темные снежные валы, звенят светом в мелкий осколок, а к калитке протянулась глубоко утопленная тропинка.
Витя кладет руку ей на плечо. Он не видит битое стекло, только парус, сквозь который просвечивает солнце.
– Как быстро время летит, да?
Аня хочет согласиться, что не заметила, как будущее подлетело метелью. Встало ледяной горкой. Скоро очередь скатиться, а она передумала.
Но сказать не может. В горло пустила корни холодная мурава. Перехватывает дух. Аня не отвечает, спускается к калитке.
– Давай наперегонки!
Бежит вниз по проселочной дороге. Витя, смеясь, обгоняет в два шага. Высокая, красивая, в длинном платье, она кажется ему то ли призраком, то ли сном, не отпущу, говорит он, поднимая ее от земли, и вдруг застывает, чему-то пугаясь в ее лице.
– Все нормально?
У Ани кружится голова. Немеют пальцы. Вертится и звенит небо. Ей страшно, ей весело, она его не любит.
– Да, – говорит она. – Все нормально, да.
Я пришла к поэту в гости
Я опоздала – было пятнадцать минут второго. В просторной комнате тихо, меня, казалось, не ждут.
– Оля, ты? – вырастает солнцем ясный, только что от книги, мальчик Митя.
– Все-таки зря ты без телефона, нельзя же так.
– Ерунда, зачем? Ты же пришла.
– Но ты мог уйти.
– И куда?
Возразить нечего. Митя – двадцати семи лет, а как древний старик-затворник. Зато письма писать настоящий мастер. И вообще – писать мастер. Приглашать меня, так целой повестью.
Ключ от его квартиры с прошлого года кочует по моим карманам. Но просто так не прихожу. Такой уговор: он мне повесть, я ему гостья.
– Ты забыл мои приметы.
Говорю и стряхиваю снег с шапки. Помогает снять пальто. В узких жилистых руках, в тонкой коже, бледной, как у ребенка, есть неуверенное, теплое, смешное.
– Чем занимаешься, Митя?
– Ничем.
Пожимает плечами. Так он все время, сколько знаю его, улыбается и пожимает плечами.
– Ничем, говоришь, а я ужасно по тебе соскучилась.
Целую его в совсем неколючую щеку. Снимаю ботинки и иду на кухню. Пятна света гуляют по пустому столу. «Воля и представление» на подоконнике, открыта на сто восьмой странице. Духом питается человек.
– Как тебе?
– Да как сказать…
Пока он говорит, достаю чашки с верхней полки, ставлю чайник, ищу сухари, но вместо них нахожу, о чудо, свежий хлеб с семечками, руками испеченный.
– Что это?
От удивления спрашиваю невпопад, потому что не знаю никого, кто бы был таким же ретроградом привычек, как Митя.
– Это так, гостинец.
Смущается и спешно продолжает оборванную речь. Я завариваю чай и отламываю хлеб. Настоящий эльфийский хлеб, решаю я, и принесли Мите этот Хлеб эльфы. Правильно, давно пора им навещать Митю. Он этот мир расскажет как надо и никого не обидит.
– А ты?
– И я ничего.
Рассказываю, что читаю Фромма, в садике ставят Гамлета, а Юра, чудак, носит теперь свитера, как у Стива Джобса.
– Надо же! – искренне удивляется он и тоже отламывает хлеб. – А я познакомился с реставратором. Они в мастерских слушают классическую музыку. Белые мастерские, представляешь, чисто-чисто, и играет Бетховен, Брамс, Шуберт. Руки у всех – чудо. А она еще и красавица.
В руках он держит изящную, мне знакомую фарфоровую кружку.
– Смотри, помнишь, здесь было отколото?
– Да.
– А теперь?
Кружка действительно цела и совершенна. Смотрю пристально на кружку и на его лоб, там не стало одной морщинки. Да, все совершенно ясно.
– Митя, пришли мне свои новые, хорошо?
– Хорошо.
За полночь, дома, оставшись одна, нетерпеливо пропустив прозу длинного письма, запоем читаю двадцать листов верлибра. Ложусь в три часа, и мне снится, что пью из фарфоровой кружки теплые слезы, свои, неожиданно сладкие, как теплый эльфийский хлеб. Просыпаюсь от колокольчика за левой лопаткой. Тихо встаю, чтобы не разбудить Юру. Подхожу к окну – распахиваю. Там белым-бело, там уже понедельник. Холод ударяет в лицо. В лопатках звенит; я уже знаю, что это осколок починенной чашки. И так хорошо, и так страшно, и я так боюсь за всех – за себя, за Юру, за детей, за тебя, Митя, за тебя я очень боюсь.
– Не спишь? – проснулся Юра. Шаги за спиной, рука на плече.
– Как же все-таки красиво, да?
– Красота в глазах смотрящего, – отвечает мудрый Юра.
И мы не уходим. Стоим и смотрим, в сущности, на обычный утренний снег обычного понедельника. Тикают часы, бьется пульс, снег тает на щеке – живые.
Цветы № 3
Полсекунды внимательного взгляда хватит – с лиц начнет спадать шелуха. Вера смотрела и знала, что боги не должны расцветать на лицах убийц и пьяниц, но, тысяча чертей, они там цвели. Даже сквозь еще не собранное лицо – много, много первых богов, целым садом, тесня друг друга.
Последней школьной зимой, когда родился Боря, Вера любила декупаж и оригами. Исход тоненькой пленочки с лиц напоминал аллергию на коже четырехмесячного брата, неосторожно пролитый жидкий клей на руке, побрызганные ожесточившимся снегом перила в парке. Ей нравилось облокачиваться на них, есть мандарины и кидать рыжие кожурки на лед. Про уток она не думала. Мандарины ела по три штуки в день, а хлеб не ела – скармливала воробьям.
Как бумагу, но торопливее, увлеченно складывала в живой силуэт и раскрашивала: мужской шарф, развязный вязаный свитер, сигарету и шутки про Сэлинджера и Онегина.
– В театрах меня всегда привлекал… – говорил шарф.
– …буфет! – хохотал свитер.
– У меня три образования, – хвастался шарф.
– Или образа, – поддакивал свитер.
– Богослов, искусствовед и политик, – говорил один.
– Два неоконченных и опыт работы в управе, – подхватывал другой.
Впервые услышала этот оркестр в костеле на Китай-Городе.
– Я и звонарь, кстати. – Играл орган. Перчатка бесенком постукивала пальцами по деревянной скамейке. – Ценю артефакты и музыку. В вещах и искусстве скрыты мистика, тайный смысл, можно сказать – душа. Все относительно: и возраст, и время, и любовь, и нравственность. Все неопределяемо и сложно, а вещи – их можно хотя бы проверить на подлинность.
Бродили по рождественской ярмарке. Вокруг вертепа – толпа. Только Вифлеемскую звезду и увидели, электрическая.
– А здания! Здания – это история о том, в какие условности мир загоняется.
За широкими шагами и быстрой речью Вере приходилось идти быстро-быстро, потому что было в ней два вершка.
Родители опаздывают на свой Новый год. Верин праздник ждет, пока закроется дверь.
– Страшно тебя одну оставлять.
Борю укутали – только глаза и видно.
– Ну ладно, цветы поливай, одевайся теплее. Деньги на тумбочке.
Ананас, бутылка шампанского, томик Камю и лебедь из серебряной фольги – неслась с этим через парк. Чудом не оступилась. А когда шла обратно – без всего, с пустыми руками – обидно упала на жесткий лед. Ногу до крови. Ноет, нет – горит.
Дома закрыла глаза на двое суток. Наверное, грипп. И все один и тот же сон: китайская ваза, прозрачной воды доверху, поет и тихонечко танцует на тоненькой серебряной пластине. Тинь-тинь-тинь. Смешная такая, маленькая. Из леса приходит ботинок. Тинь-тинь-тинь. Она ему. А он ничего. Подошел и пяткой. Вода проливается, но не вода – то кровь, то саранча, то клубок змей. Раз за разом снится. И каждый раз что-то новое там умирает.
На третий день проснулась. Поняла – бабушкины часы остановились. Одеваться было тяжело, нашла телефон сестры. Прилетела, отпаивала бульоном. В ромашковом меду плыл жар. Смешило деловое в трубку (самой двадцать пять!) «у ребенка». По «Культуре» на каникулах крутили «Вишневый сад» снова и снова, Чехова за Чеховым.
Стихло не сразу. Первый раз после болезни выбралась в парк погулять с братом. Шла с коляской по черно-белой, как карандашом затушеванной, дороге. Живые елки расступились перед мертвой. Вся в мишуре, покойница. Царапнуло. Выбрала ободранную березу с тоненькими руками. Повесила трех бумажных лебедей на второй снизу ветке. Даже промочила ботинки. Зато держались до весны, измокли, ссутулились, но ни один не слетел. Бойцы!
Вчера Вера открыла окно, чтобы накричаться вдоволь, но так и не крикнула – одернуло что-то. Ночь все-таки. Звездная. Всмотрелась в темноту: глаза, нос, подбородок. От щеки ко лбу летят три крошечных лебедя, подхватили и несут – не сон ли? А ниже, у самой земли – осколки вазы, из которых растет ветвистый, как дерево, небосвод.
Грузия, любовь моя
Июль, побег из Москвы – в белый низкий дом в глухом южном городке. Перекресток двух центральных улиц, нырнуть в арку, ступить в заповедный двор. Дикая трава через булыжник, пластиковый белый стол и два стула. Часто ставим на стол цветы, на рынке они стоят копейки.
Хозяйка, тетя Наташа, путешествует по побережью с новым кавалером. Мы с Отари на правах племянников делим обязанности по дому: он прогоняет гусей, я хожу на рынок за помидорами. Телефонной связи и интернета нет: в оглушающей свободе разбираем старые полки, моем полы в гостиной, гоняем солнечных зайцев.
Отари – сын другой маминой сестры, красавицы Дары. Ему пятнадцать, он худой и длинный, сидит с книжкой в нашем тенистом раю, цитирует Мамардашвили. Он здесь уже третье лето, я – первое. Ведет меня по длинной дороге прочь от города, там есть высокий старый карьер с камешками разных цветов. Лежим там спинами и загораем, будто на море. Настоящее море, он говорит, далеко – двести километров, надо брать машину.
Мне восемнадцать. Высокое небо слишком мне высоко, московская жизнь отпускает не сразу. Первые дни обхожу все сорок домов, пугаюсь громких соседей, но сплю крепко и долго. До часу, до двух.
В Москве я просыпаюсь всегда в полшестого утра, вот уже полгода. Даже когда никуда не надо. А мне кажется – надо.
Отоспавшись, оглядываюсь смелее: захожу во дворы, торгуюсь за мандарины. Для помидоров нашла большой нож, едим их с солью и оливковым маслом. Дольше прогулки. Вкуснее вода.
Сначала ходили на ручьи по очереди, каждый день, потом вместе, раз в два дня, я две бутылки и он – канистру. Над землей пар. Обжигает горячие руки – такая ледяная. Обратно чуть не бежим, скорее прячем в подпол. Пьем из старых дедушкиных стаканов. Плотное цветное стекло держит прохладу.
Узнаю в лицо мальчишек на велосипедах и женщин за прилавками. Соседей уже не боюсь: качаю ребенка, пока близнецы ищут мне соду. Отари зовет их гулять с нами, и они убегают через окно – мать не любит, когда они приходят поздно.
Возвращаемся уже к рассвету, глотая хохот. Близнецы не пустили нас даже до гравиевой дорожки – под чужими ногами она хрустит. Зовут, как проснемся, на море: у Джамиля есть права и отцовская машина.
– Кошки, настоящие кошки! – смеется Отари.
Наша краюха неба, двором вырезанная, светлеет.
– Колодец вечности, – говорит он.
– Небесный суп, – поддакиваю я.
Ресницы у него длиннющие, девичьи, и глаза из-под них блестят лукаво. Кладет ладонь мне на шею.
– Хочешь, поцелую?
Снимаю руку и медленно иду к себе. Прислушиваюсь – скрипит половица в соседней комнате, и все замолкает. Молчит долго. Звездным колоколом мигают окна, вымытый пол гоняет лунные пятна. Решаю, что поеду на целый день купаться, скажу, что передумала.
Будят бродячие гуси. Га-га-га под окнами, не поспишь. Три шажка по лестнице, чтобы на четвертом споткнуться. Остаться. Посмеивается, предлагает ампутировать, но собирается за льдом. Выносит на руках, сажает на стул во дворе.
– Подожди, – останавливаю. – Поцелуй.
Смеется звонче, целует легко и уходит.
Слышно, как окна в доме стучат крыльями. Ветрено – а в запруде двора даже хвосты занавесок спокойны.
Подставила цветной стакан под дорожку света. Собрал, празднично разбросал по столу лучистый узор. Зажегся ярко и вдруг поблек. Посмотрела наверх. Краешек солнца зауглен. Какая-то треть, даже меньше, ушла в темноту, а показалось, – целое небо украли.
Смог
Горит Шатура, торфяные болота. Как будто на это лето мало едкого дыма первой любви. Еду на трамвайчике от Ромы, вглядываюсь в смог. Под Шатурой был наш старый деревенский дом. Родители продали его лет пять назад. А кажется, что все сто.
Белый деревянный дом на отшибе; ступени, между которыми страшно провалиться; чердак с покатыми стенами, качели во дворе. Лес за забором.
Неужели горят мои ели и убежище в лопухах? Смог об этом не говорит. Он выдает только носы ближайших машин, глаза светофоров, брови балконов и лбы витрин. Москва в театральном гриме. Москвичи не отстают: в один день надели маски – аптечные. Кажется, открытые лица носят только алкаши и влюбленные. Одни – чтобы пить, другие – чтобы целоваться.
Школа моих поцелуев – Шатура. «Да не пихай язык мне в горло, я задохнусь», – поучал рыжий внук соседки, местной ведьмы Марины. Прятались на бревнышке за баней. Бабка его оборачивалась кошкой, он сам видел.
Я Марину не боялась. Кажется, ей нравилось, что я дружу с Ритой, ее глухонемой племянницей. Когда я заходила, Марина заваривала васильковый чай и рассказывала сказки.
Мы с Ритой ходили на речку, качались на качелях, собирали венки. Свои я дарила Ване. Ритины обычно тут же расплетались и оставались в песке, сваленном за домом. Ваня больше гулял с ребятами из деревни. Каждый день, в пятом часу вечера, забирался на велосипед. Поднималось облако пыли, и он исчезал за поворотом. Возвращался за полночь. Иногда немножечко пьяный – и пел. «Ой, мороз-мороз». Всегда почему-то ее.
Однажды он перелез ночью к нам через забор и громко стучался в дверь.
– Губы-мед! Мне губы-мед!
Бабушка моя, тугая на ухо, перепугалась до смерти этим «пулеметом».
Я многого боялась в деревне. Но страх этот был чудесной породы. Например, как-то утром вместо цементной серой лестницы на улице я нашла живую гору, сплошь покрытую черными живыми икринками. Из дома, пока не разогнали муравьев кипятком, можно было выйти только через окно. До конца того лета замирала, открывая эту дверь.
На следующее лето боялась Серого Волка, который кусает бочок, потом – Ивана Купалу, которого представляла лешим; а уже потом, до заиканья – чтобы бабушка не застукала нас с Ваней. Строгая и древняя, она не снимала платочек, молилась на образа. Я бы умерла со стыда.