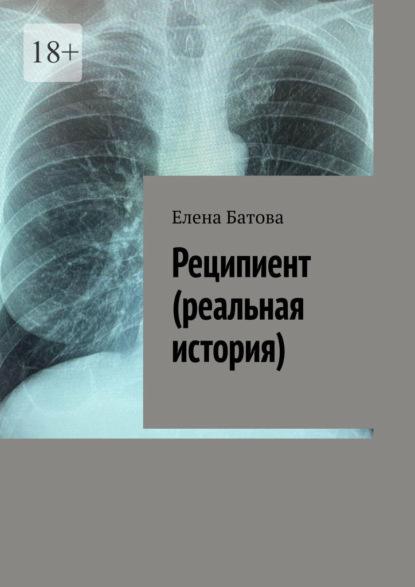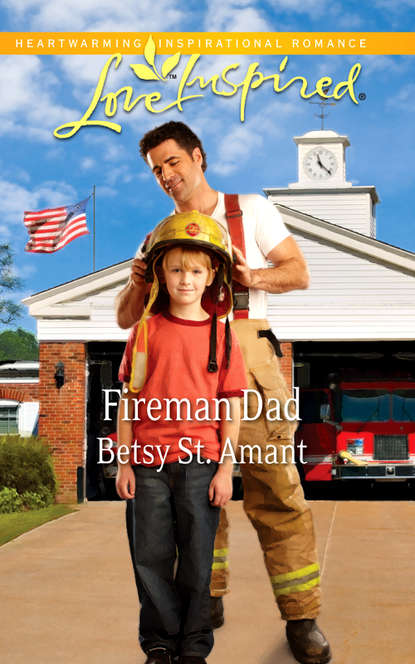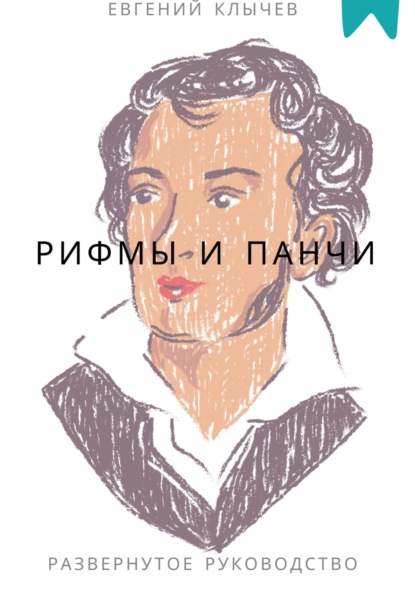- -
- 100%
- +
А на работе каково? Ты сидишь с людьми в кабинете, они начинают ощущать себя некомфортно, беспокоиться, переживать за свое здоровье. И они, конечно, правы. Я бы тоже сторонилась постоянно кашляющего человека. Самое ужасное – это совещания. Когда я была здорова, я любила совещания – весь коллектив собирается, обсуждает дела насущные, кто-то пошутит, посмеемся, а я любила смеяться. Но, заболев, я возненавидела совещания, для меня они превратились в пытку, я стала зажатой и нервной, стараясь сдерживать кашель. Очень боялась раскашляться при большом количестве народа, мне было стыдно. Да, я стыдилась кашля, я еще не знала, что у меня за болезнь, но я её очень стыдилась, боялась, что люди меня посчитают заразной. Если раньше мне хотелось быть на глазах, в центре событий, то теперь я хотела стать невидимкой. Но бросить работу я не могла, даже не представляла себе это. Я привыкла работать, быть в коллективе, среди людей. Да и зарабатывать было нужно. На одну мужнину зарплату прожить было сложно.
Но однажды мне всё-таки предложили уволиться с работы. Руководство нашло какие-то причины, объяснения, но на самом деле, мне кажется, дело было в моем кашле. Был декабрь 2011 года. Кашляла я тогда уже очень часто и сильно, в бронхах постоянно скапливалась мокрота, в груди у меня всё хрипело и булькало.
Приближались новогодние праздники. Устроиться в конце года на работу нереально. У меня была подруга, которая работала в одном из городских ресторанов арт-директором. Она мне предложила подзаработать Снегурочкой. Я напилась таблеток, подавляющих кашель, и поехала в ресторан на смотрины. Ехать нужно было поздно вечером, потому что в это время хозяин ресторана ужинал в своей вотчине. Как мне сказала подруга, он очень творческий человек, любит, чтобы было богато, красиво, вкусно. Смотрины прошли успешно, меня утвердили.
Я начала работать Снегурочкой. Ресторан представлял собой комплекс помещений, больших и маленьких. Начинались новогодние корпоративы – самый заработок. Заказов было очень много. И, конечно, все гости заведения хотели видеть Деда Мороза и Снегурочку. В тот год декабрь выдался снежный и холодный, морозы были сильные. Мне дали довольно легкий костюмчик, скорее даже летний. Я надевала под него и свитера, и пуховый платок, но на улице в нем всё равно было очень холодно, а в помещении с такой поддевкой было жарко. Наша с Дедом Морозом задача заключалась в том, чтобы ходить из помещения в помещение и поздравлять народ, играть в игры, загадывать загадки, веселить. А пока народ приходит в ресторан, «подтягивается», так сказать, посетителей нужно встречать на улице у входа. В общем, мне с моим кашлем как раз такой работы и недоставало. Но нужно было работать, я так решила. Сидеть дома – не для меня. Я собрала себя в кулак и приступила к делу. Кроме того, что было холодно, душил кашель, еще и донимал подвыпивший народ. Но я всё выдержала, доработала до конца. За десять дней заработала больше денег, чем мой муж зарабатывал за месяц. И, к моему удивлению, не заболела. Я, муж и сын встретили новый 2012 год в ресторане, я была в костюме Снегурочки.
Но вернемся в 2011 год. Летом этого года я выпросила у своего терапевта направление в областную больницу. Почему выпросила? Потому что врачи сами не предлагали никогда, а если попросишь, старались не давать направления в больницы другого города. Как я потом спустя несколько лет узнала, у них установка на то, чтобы деньги с каждого полиса обязательного медицинского страхования всеми правдами и неправдами оставались в своем городе и регионе. К сожалению, и сегодня в большинстве регионов дела обстоят точно так же.
Получив долгожданное направление, я попала на плановую госпитализацию в пульмонологическое отделение областной больницы. Лечение там было не ахти, но по крайней мере мне поставили диагноз – бронхоэктатическая болезнь с двусторонним поражением легких (S4, S5 – справа и слева), бронхообструктивный синдром, пневмосклероз в базальных сегментах, диффузный эндобронхит II степени, дыхательная дистония. Одышки у меня тогда еще не было. Меня уничтожал кашель. Мне прописали таблетки, ингаляции и отпустили домой.
Я принимала таблетки, делала ингаляции. На тот момент у нас дома уже появился интернет, я прочитала всё, что нашла о бронхоэктатической болезни. Прогнозы там делались неутешительные, хотя пульмонологи, у которых я была впоследствии, говорили, что с этой болезнью можно жить долго и даже неплохо. Может, кто-то и смог так прожить, и живет кто-то до сих пор, но у меня не получилось. Я уже упоминала выше, что пила исландский мох, эта трава обладает множеством полезных лекарственных свойств. Не знаю, от неё или от лекарств, которые мне прописали в областной больнице, но на какой-то период мне стало немного лучше.
2012 и 2013 годы я прожила более-менее спокойно. У меня была новая работа, она мне нравилась, был замечательный коллектив. Я старалась каждый день заниматься гимнастикой, занималась сама, дома – это были и йога, и танцы, и растяжка, и дыхательная гимнастика. Кашель не исчез, но он как будто стал не таким изнуряющим. Я периодически проходила обследования в своей поликлинике, которые показывали, что ухудшения нет.
Одышка
Весной 2013 года я неожиданно забеременела. Периодически у меня поднималась температура, при этом не было никаких простудных симптомов. Осмотрев меня, врач сообщил, что не всё хорошо с беременностью, что нужно срочно ложиться в больницу, в гинекологию. Я легла. Оказалось, что у меня очень большие проблемы. Меня срочно прооперировали.
Операция проходила в одной из городских больниц. Как я жалела потом, что не поехала в областную больницу… Одной моей знакомой делали подобную операцию в области до всех этих событий со мной, и у нее всё прошло замечательно. Я же испугалась диагноза и поспешила, отдала себя в руки городским докторам.
Прооперировали меня в довольно короткие сроки, тянуть было нельзя. После операции начались проблемы с отходом мочи, поднялась температура. Оказалось, хирург затронул мочеточник, как-то подшил его. Правая почка увеличилась в размерах и воспалилась. Начался гидронефроз. Меня срочно перевезли в другую больницу, в урологию. Там меня тоже очень быстро, в день поступления, прооперировали. Операция проходила под местным наркозом. Во время нее врачи давали мне команды: «Вдохнуть. Выдохнуть». Прошла операция хорошо, почку спасли. В нее поставили нефростому. Четыре месяца я пробыла на больничном, с нефростомой в почке, к которой был прикреплен мочеприемник. Но и это еще не всё. После операции в гинекологии в животе у меня образовалась гематома, которую обнаружил случайно специалист УЗИ через неделю после операции на почке. И снова меня в срочном порядке везут на операцию. И снова – общий наркоз, и на этот раз вместе с гематомой мне удаляют здоровый левый яичник. Почему? Видимо, так было нужно…
Эти операции, наркозы не прошли даром. Осенью 2013 года у меня появилась одышка. Начиналось всё неожиданно: у меня резко заболело под левым ребром. Это случилось прямо в день рождения моего сына. В квартире было много родственников и друзей. Я подумала, может, болит желудок (всё-таки день рождения – праздник, еда, напитки), выпила но-шпу, но боль не прошла, а всё нарастала и нарастала. Тогда я решила, что это сердце, приняла валидол, но лучше не стало. Родственники предложили вызвать скорую, я отказалась. Я очень не люблю скорую, боюсь ее, как, наверное, большая часть населения нашей страны. Решила выпить сильное обезболивающее, боль утихла. А на следующее утро я еле встала с кровати, у меня болели бока и спина, я ходила по квартире сгорбившись – не могла разогнуться, ощущение было такое, будто у меня растут крылья в прямом смысле. Дышать было тяжело. Потом оказалось, что у меня невралгия и в очередной раз двусторонняя пневмония. Муж повез меня в городскую больницу. Мне сделали рентген. Но рентгенолог даже не распознал пневмонию. Не понимая, что со мной, я лечилась дома согревающими мазями и обезболивающими. Но лучше мне не становилось. Поднялась температура. Мы вызвали врача на дом. Тот направил меня на рентген в поликлинику. В поликлинике, посмотрев мои снимки, врачи направили в тубдиспансер, где мне сказали, что я не их пациент (слава Богу), поставили диагноз «полисегментарная пневмония» и отправили к терапевту. Вот так меня и лечили – отправляли из одной больницы в другую.
Пневмонию тогда мне вылечили. Но появилась одышка. Из лечения на постоянной основе у меня периодически были разные антибиотики, которые мне прописывал терапевт, и бронхолитики, которые прописал пульмонолог в областной больнице.
На работе в этот период у меня всё было замечательно, я очень много работала, продвигалась по служебной лестнице, старалась как можно меньше сидеть на больничном, никому не говорила о своей болезни, которая усугублялась.
В 2014 году в моей семье случилось страшное горе – умер мой младший брат, которого я обожала. Он заболел внезапно в январе, через неделю после Крещения. Жил он в Московской области и был военным. Неделю, когда он был в тяжелом состоянии, вся наша большая семья сидела на телефонах и молилась. В начале февраля брат умер. Это было непостижимо. Как это вообще могло случиться? Как мой здоровый младший брат мог умереть? Трудно подобрать слова, чтобы передать, какой это был для меня удар. Как вообще кто-то из родных может умереть? Они не должны умирать совсем, никогда. Они должны жить вечно.
Впервые я реально прочувствовала смерть в двадцать два года. Тогда умер мой родной племянник, крестник. Ему было всего три годика. Это тоже случилось неожиданно. Нормальный здоровый ребенок вдруг умер. Тогда я осознала, что смерть – это не что-то далекое, чужое, не касающееся меня и моих родных; что она постоянно крутится где-то рядом, невидимая, никем не замеченная, хитрая и коварная, принимающая различные формы и образы. Я поняла, что она есть. То есть я, конечно, знала, что люди периодически умирают, но это же старые люди, это дедушки и бабушки, и это нормально, это вполне естественно. А когда в костлявые руки смерти попадают маленькие здоровые дети – это противоестественно. Смерть племянника была сильным потрясением для меня. Но тогда я была еще молодой и здоровой, поэтому рана от потери малыша смогла затянуться без последствий для моего организма.
И вот через двадцать лет умирает брат. Я плакала полгода постоянно, ежедневно. Я чувствовала, как у меня внутри всё заледенело, исчезло ощущение жизни. Время шло, но то самое ощущение жизни, какого-то куража, радости, которое раньше жило во мне даже несмотря на болезнь, не возвращалось. Мое состояние начало ухудшаться. Я выплевывала огромное количество мокроты. В 2015 году начались кровохаркания. Одышка нарастала, я стала медленно ходить, при совсем небольшом ускорении я задыхалась. Побывала у всех пульмонологов города, но ничего критического они не находили. Периодически я ложилась в дневной стационар местной поликлиники, меня пролечивали инъекциями всё тех же бронхорасширяющих средств и антибиотиков. На какой-то очень короткий период становилось лучше, но потом всё возвращалось. Одышка усиливалась. Функция дыхания падала и падала.
Не могу вспомнить, когда и какой врач, может, кто-то из рентгенологов, после очередного исследования на компьютерной томографии моих легких поставил мне диагноз ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких. Это значит, что просветы моих бронхов становились всё уже и уже, воздуха сквозь них проходило всё меньше и меньше. Но я продолжала искать средство спасения, я почему-то верила, что в наш продвинутый век, век новых технологий и прогресса такое средство обязательно должно быть. Я отчаянно штудировала интернет, но если что-то мне и попадалось, то это было не у нас, а где-то за границей, в другой, более развитой, стране или вообще из области фантастики. Чаще всего мне попадались народные рецепты снадобий, сказки о снятии порчи, разные физические упражнения, сайты платных клиник, где свято обещали, что вылечат всё. Я пробовала это всё.
Я ходила к тетенькам и дяденькам, которые снимают порчу, которой, конечно, по их словам, на мне было много. Во всяком случае, они ее видели. Как правило, они все работали одинаково. Одеты они абсолютно по-домашнему, даже небрежно. На ходу, занимаясь своими домашними делами, расспрашивают о твоей проблеме, особо не вдаваясь в подробности, делая вид, что им всё ясно, быстро приступают к лечению – жгут спички, плавят воск, капают им в воду над твоей головой, водят руками, что-то шепчут. Длится это действо не очень долго, минут десять-двадцать. На том, чтобы ты пришла еще и еще раз, они не настаивают, это как бы твое дело, но… лучше прийти, потому как от одного раза существенного улучшения не будет. Я ходила, платила и ждала. Но, увы, ничего не помогало. Бронхоэктатическая болезнь легких необратима, об этом я прочитала много. Я это знала, но не могла в такое поверить.
Как-то я услышала выражение, что на войне не бывает атеистов. В тяжелой неизлечимой болезни так же. Конечно, я пошла в церковь. Я посещала богослужения и раньше, причащалась, исповедовалась, но теперь я это делала с большим усердием и, наверное, с большей верой. Я поняла, что больше мне надеяться не на кого, кроме Господа. В плане людской помощи я чувствовала себя очень одиноко.
Осознание болезни
Где-то в 2015—2016 годах я осознала всю серьезность своей болезни, у меня начали появляться мысли о смерти, моей смерти. Мои родные привыкли к тому, что я кашляю, и их это перестало волновать, хотя и на первых порах особо не волновало. Мой муж был единственным (кроме врачей, конечно), кто знал мой диагноз, но и он тоже не особо беспокоился по этому поводу. Почему? Думаю, мои родные не подозревали, к чему это может привести. И потом я ничем, кроме кашля, не показывала, что я больна, не жаловалась, не ныла, не докучала. Я и сама не подозревала, что это может привести к плачевным последствиям. Родные и сама я привыкли к моей болезни. И когда мне вдруг стало намного хуже, я оказалась с нею один на один. Это очень страшно, когда из тебя вытекает жизнь, энергия, и ты это ощущаешь, но ничего не можешь сделать, и никто во всем нашем огромном мире не понимает, не хочет и не может понять, что ты скоро просто исчезнешь, совсем. А тебе только сорок лет, у тебя ещё есть планы на эту жизнь, и, по сути, ты ещё и не жил, а в большей степени выживал. Тогда, казалось бы, что ты цепляешься за эту такую трудную, часто несправедливую жизнь? Зачем? Ведь можно взять и покончить со всем этим, если сейчас опустить руки, перестать бороться и что-то делать. Но я очень хотела выжить!!! Я хотела жить!!! Люди любят жизнь, и я люблю. Такова психология людей. Никто не хочет уходить отсюда. Даже когда здесь очень плохо, даже когда невыносимо, большинство людей предпочитают остаться. Никто не знает, что Там. Никто оттуда не приходил, не возвращался. Никто нам не рассказал ничего о Том мире. Поэтому нам страшно. Люди боятся неизвестного, боятся смерти. Но по-настоящему они начинают ее бояться только тогда, когда она подступает очень близко, когда люди ощущают ее, видят очертания, когда чувствуют ее холодные неприятные поглаживания на своей коже. Пока она где-то далеко, там у кого-то, люди бравируют, они готовы к встрече с ней. А бывают такие, которые зовут ее, приближают, жаждут познакомиться. Но это потому, что они чувствуют себя бессмертными, потому что они здоровы, они уверены, что всегда будет так и не может быть по-другому. И даже когда тебе уже поставили диагноз неизлечимой болезни, но ты не чувствуешь ее в себе, ты еще полон сил, даже тогда в тебе нет страха смерти. Ты всё равно думаешь о смерти как о чем-то очень далеком, да и думаешь о ней только для того, чтобы жалеть себя и чтобы тебя жалели другие, это даже можно назвать кокетством. А тот самый настоящий ужас, от которого ты впадаешь в жуткую депрессию, появляется потом, намного позже, когда смерть появляется на пороге твоей комнаты, когда ты четко видишь ее очертания, ощущаешь ее частое холодное дыхание, когда она садится на твою кровать и слушает твои слабые вздохи. Я это со всей полнотой ощутила в 2018 году, когда мое самочувствие стало ухудшаться в геометрической прогрессии.
В начале 2018 года, еле выпросив в своей городской поликлинике направление на лечение в областную больницу, я наконец-то госпитализировалась туда в середине марта. На тот момент у меня периодически поднималась небольшая температура, я захлебывалась мокротой, которая была зеленого цвета и имела гнилостный запах, иногда плевалась кровью, могла выплюнуть целую ладонь ярко-алой густой жидкости. Чтобы не задыхаться, я ходила медленно, с остановками, также очень медленно могла подниматься по ступенькам, но всё-таки могла и поднималась. Я легла в больницу в целом с нормальным (как мне казалось) самочувствием, если это можно назвать нормальным относительно моей болезни (т.е. не в критическом состоянии, не с обострением). Я хотела полежать, отдохнуть, подлечиться. Настрой был самый оптимистичный.
Молодой врач-пульмонолог этой областной больницы, когда я приехала к нему на консультацию, заверил меня, что здесь меня хорошо обследуют и полечат. Ведь это была не просто больница, а научно-исследовательский институт, с новыми прогрессивными технологиями. Я надеялась, очень надеялась на этого врача, на институт, в котором, как мне казалось, было всё необходимое для обследования и лечения – оборудование, новейшие методы лечения, не просто врачи, а профессора, доценты, кандидаты медицинских наук.
Но с самого начала всё пошло не так, как я ожидала. В больнице шел ремонт, лифты не работали. Положили меня в старое отделение, в душную палату на пятом этаже, площадь ее была приблизительно девять метров, и в ней стояло шесть кроватей. В такой маленькой палате лежало шесть человек с различными легочными проблемами – бронхитом, астмой, воспалением легких. Туалет был общий на три палаты. Душ был в туалете. И невозможно отвратительное питание. На обследования нужно было ходить по всей больнице, по разным этажам, в том числе по подземному переходу, где было очень холодно, сыро и жуткие сквозняки. Три дня меня обследовали. Обследования были стандартные, как везде, с результатами таких же обследований я приехала на госпитализацию. Это анализы крови и мочи, спирография, ЭКГ, компьютерная томография легких и бронхоскопия. Что такое анализы крови, мочи и компьютерная томография, я думаю, многие знают. В них ничего нет неприятного для больного, разве что немного, совсем чуть-чуть больно от укола при заборе крови. Спирография – это довольно легкая для больного процедура.
Это метод исследования, с помощью которого определяют состояние функции внешнего дыхания, измеряют объем легких и скоростные показатели дыхания.
А вот бронхоскопия – это очень неприятная процедура. Упоминание о ней наводит ужас на всех пациентов.
_____________________________________________________________
Бронхоскопия – это эндоскопическая процедура, во время которой врач осматривает слизистую оболочку бронхов, может провести биопсию и выполнить некоторые лечебные манипуляции. Всё это осуществляется при помощи бронхоскопа – инструмента в виде тонкой гибкой или жесткой трубки диаметром от 3 до 6 мм.
_____________________________________________________________
Проводится она в основном под местным обезболиванием. Обезболивающее брызгают в носовые ходы и горло. Врач-пульмонолог (или эндоскопист) вводит медленно бронхоскоп, постепенно осматривая нижележащие отделы трахеобронхиального дерева с обеих сторон. Аппарат обычно вводится через носовой ход, но в некоторых случаях может быть введен в дыхательные пути и через рот Насколько хорошо пройдет процедура, зависит в большей степени от умения врача, и не только физического умения, но и психологического. Нужно уметь настроить пациента, расслабить его. Я всегда боялась и боюсь бронхоскопии. Ощущения, скажу я вам, очень неприятные, иногда болезненные. Больному дышать и так тяжело, а тут еще трубками перекрываются носовые ходы и бронхи, и в течение 10—15 минут крутят-вертят эти трубки внутри организма. После прохождения процедуры чувствуешь себя разбитым и еще более больным. Может подняться температура, усилиться кашель. Но именно эта процедура дает возможность увидеть полноценно картину болезни и уточнить диагноз.
Не знаю, что именно окончательно подкосило мое и так на ладан дышащее здоровье, – то ли сквозняки в подземном переходе, то ли неумелые грубые врачи-эндоскописты, то ли я подцепила какую-то инфекцию, но на четвертый день пребывания я очень сильно заболела. У меня появилась ужасная тошнота, высокая температура, убивающий кашель.
Тот самый молодой пульмонолог, к которому я приезжала на консультацию, был моим лечащим врачом. Он появлялся в палате один раз в день приблизительно в одиннадцать утра, в белом халате, с гладко выбритым лицом. Подходил к каждому пациенту, интересовался его самочувствием, выслушивал жалобы несчастных больных и благополучно исчезал. Бывали дни, когда он приходил в палату с кипой бумажных папок и каждому мученику рассказывал о результатах его обследований. Если больной просил его послушать, измерить давление, пульс, тогда врач это делал, сам же инициативы по исполнению своих обязанностей не проявлял. Больше его в этот день увидеть было невозможно. А в шестнадцать ноль-ноль, как я узнала потом, он заканчивал свою работу и уходил домой. Он делал какие-то назначения, давал распоряжения медсестрам, и они уже внедряли в жизнь все идеи по лечению пациентов.
Итак, меня начали лечить, правда, я не знала, от чего. Вместо того чтобы обследовать и лечить от основного заболевания, для чего я и легла в больницу, меня лечили теперь от больничной инфекции. Мне прописали какой-то убойный антибиотик капать внутривенно несколько дней. Представлял он из себя жидкость ярко-желтого цвета в пузырьке объемом сто – сто пятьдесят граммов. Одного раза было достаточно, чтобы я чуть не умерла, по-другому не скажешь. Не знаю, как поживали после этого мои бактерии в организме, но самому организму было уже не до них. Открылась такая рвота, что меня выворачивало наизнанку. Температура при этом продолжала подниматься. Я просила позвать врача. Медсестры уходили за ним, но, возвратившись в палату через час-два, говорили, что они его не нашли, или что он занят, или что сказал ввести мне противорвотное. Мне ставили инъекцию церукала, но он помогал только на короткое время, потом всё начиналось сначала.
Я благодарю Бога за то, что тогда в палате со мной оказались необыкновенные женщины. Я всегда благодарю Господа за всё, что Он делает для меня. Женщины были постарше меня, и некоторые нянчились со мной, как с собственным ребенком. Они, не испытывая брезгливости, а может, и испытывая, но не показывая, убирали за мной рвоту, просили в столовой для меня бульон, поили водой, провожали до туалета. Слава Богу, что на моем пути встречаются добрые люди! Это вселяет надежду на то, что добра на Земле больше и оно сильнее зла.
Мне сменили антибиотик. Лечение продолжили. Температуру сбили, но состояние мое ухудшилось. У меня началась очень сильная одышка. Мне стало тяжело в медленном темпе пройти пять метров до туалета, стало тяжело одеваться и раздеваться, я задыхалась в душе от паров воды, я резко похудела. Я никогда не была толстой, даже не была полной и пухленькой, всегда была стройной. Когда начались проблемы с легкими, периодически худела или могла набрать вес незначительно, но держалась всегда в районе пятидесяти пяти килограммов. Неделю же спустя после госпитализации, когда тошнота утихла и спала температура, я пошла в туалет и посмотрела на себя в зеркало, которое висело над раковиной. Я была в ночной рубашке – переодеваться не было сил – и в отражении увидела, что у меня на руках в области плеч висит кожа, что руки стали похожи на палки, я выглядела тощей.
Я не смогла ходить в столовую, которая находилась на третьем этаже, для меня теперь спуститься и подняться даже на пару ступенек стало невозможно.
За две недели соседки в плате менялись, но обязательно попадались добрые женщины, которые жалели меня и помогали. Мы с ними много разговаривали о жизни и, конечно, о болезнях. Особенно мы подружились с одной, кровать которой стояла ближе всех к моей. Она попала в больницу с аллергической реакцией на какие-то витамины. Она видела мое удручающее состояние, видела, что лечение, которое мне здесь назначили, совершенно не помогает. Она начала говорить мне про порчу, что, может, мне надо к бабке, к колдуну. А у меня действительно было ощущение такое, будто я таю, как льдинка, как свечка. У меня даже кожа высыхала, шелушилась ужасно. С кровати я практически не вставала, только чтобы дойти до туалета. Иногда, держась за стену, я выползала в коридор и, опершись на подоконник, разговаривала по телефону с родственниками.
Надо сказать, что муж ездил ко мне каждый день. На улице стояли сильные морозы, несмотря на март. Расстояние от нашего города до областного – семьдесят километров, и еще по городу до института, который находится в центре, нужно было прилично проехать, а вечером после работы, когда все едут домой, пробки не меньше, чем в Москве. Но мой муж приезжал, стараясь успеть до семи часов, так как вход в стационарный корпус закрывали в семь вечера. Главное было – попасть внутрь, а там уже неважно, сколько будешь сидеть с больным, всё равно выпустят, ночевать не оставят. Муж сидел со мной. Я думаю, может быть, именно тогда, в марте 2018 года, он осознал тяжесть моего состояния.